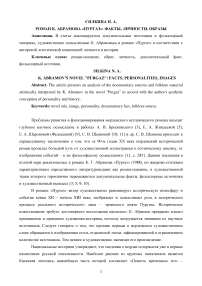Роман К. Абрамова "Пургаз": факты, личности, образы
Бесплатный доступ
В статье анализируются документальные источники и фольклорный материал, художественно осмысленные К. Абрамовым в романе «Пургаз» в соответствии с авторской эстетической концепцией личности и истории.
Документальный факт, личность, образ, роман-сказание, фольклорный источник
Короткий адрес: https://sciup.org/147248959
IDR: 147248959 | УДК: 821.511.152
Текст научной статьи Роман К. Абрамова "Пургаз": факты, личности, образы
Проблемы развития и функционирования мордовского исторического романа находят глубокое научное осмысление в работах А. И. Брыжинского [3], Е. А. Жиндеевой [5], Е. А. Шароновой (Федосеевой) [9], С. В. Шеяновой [10; 11] и др. С. В. Шеянова приходит к справедливому заключению о том, что «к 90-м годам ХХ века мордовский исторический роман проделал большой путь от художественной иллюстрации к поэтическому анализу, от изображения событий – к их философскому осмыслению» [11, с. 285]. Данная тенденция в полной мере реализовалась в романе К. Г. Абрамова «Пургаз» (1988), по жанрово-стилевым характеристикам определяемого литературоведами как роман-сказание, в художественной ткани которого гармонично перемежаются документальные факты, фольклорные источники и художественный вымысел [3; 5; 9; 10].
В романе «Пургаз» автор художественно реанимирует историческую атмосферу и события конца XII – начала XIII века, изображает и осмысливает роль в историческом процессе реального исторического лица – эрзянского князя Пургаза. Историческое повествование требует достоверного воссоздания прошлого. К. Абрамов прекрасно владел принципами и приемами художника-историка, поэтому вооружается знаниями из научных источников. Следует говорить о том, что прозаик первым в мордовском художественном слове обращается к изображению столь отдаленной эпохи, зафиксированной в ограниченном количестве источников. Тем ценнее и художественно значимее его произведение.
Национальные историки утверждают, что сведения о мордве содержатся уже в первых памятниках русской письменности. Наиболее ранним из крупных памятников является Киевская летопись, важнейшую часть которой составляет «Повесть временных лет» – летописный свод, составленный в 1113 году монахом Киево-Печерского монастыря Нестором, а в 1116 году проредактированный игуменом княжеского Выдубицкого монастыря Сильвестром. Составитель «Повести временных лет» указал точное место расселения мордвы – «по Оце реце» (по Оке реке). Из «Повести временных лет» получаем сведения о взаимоотношениях мордвы с русскими князьями. Походы последних на мордовские земли не всегда приносили им победу. В датированной 1103 годом части «Повести» сообщается о победе мордвы над князем Ярославом: «…того же лета бися Ярослав с Мордвою месяца марта в 4 день и побежден бысть Ярослав» [7, с. 280].
Краткое, но ценное упоминание о мордве содержится в памятнике древнерусской литературы «Слове о погибели Русской земли». Из этого источника узнаем, что «…от моря до болгар, от болгар до буртасов, от буртасов до черемисов, от черемисов до мордвы – то все с помощью божьею покорено было христианским народом, поганые эти страны повиновались великому князю Всеволоду, отцу его Юрию, князю Киевскому, деду его Владимиру Мономаху. …Буртасы, черемисы, вяда и мордва бортничали на князя великого Владимира» [8, с. 131].
Важным информатором по истории не только русского народа, но и мордвы является Патриаршая, или Никоновская, летопись – свод, составленный неизвестным лицом во второй половине XVI века и заключающий в себе непрерывное описание событий до 1559 года. Данная летопись, по мысли историка Н. Ф. Мокшина, дает ценный материал для реконструкции истории мордвы XII–XVI вв. «В ней, – отмечает ученый, – нашли отражение события, связанные с мордовско-русскими и мордовско-булгарскими взаимоотношениями, монголо-татарским вторжением на Мордовскую землю, участие мордвы в покорении Казани. Существенны летописные сведения о Пургасе – одном из наиболее видных правителей мордвы, именем которого («Пургасова волость») летописец назвал формирующуюся мордовскую государственность. Летописец свидетельствовал не только о «Мордве с Пургасом», «Мордве Пургасовой», но и о «Руси Пургасовой» – русском населении, подвластном Пургасу» [6, с. 48].
Таким образом, К. Абрамов не имел возможности изучить объемный историкохроникальный материал, содержащий сведения о жизни, быте, культуре эрзян и мокшан на рубеже XII–XIII вв. Сведения о них в источниках достаточно скудны, отражают в основном сферу общественно-политической деятельности, содержат упоминания лишь отдельных личностей. Это обстоятельство подвергло автора искать иные источники, которыми стали разнообразные произведения устно-поэтического творчества – предание об Абрамовом городке, предание о Скворце и Дятле, имеющее поэтический вариант – песню «На горах то было, на горах Дятловых».
Эстетика исторического жанра предъявляет требование для органичного включения фольклорного материала в ткань литературного произведения – необходимость его внутреннего соответствия художественно-авторской концепции. К. Абрамов глубоко продумывает приемы реализации устного образца в рамках авторского слова. Он не вводит предания, сказания и песни в неизменном виде, а осваивает содержащуюся в них информацию, благодаря чему роман «Пургаз» является цельным, гармоничным, соответствующим жанровым критериям произведением, синтезирующем фольклорное начало, документальный материал и собственно-художественный вымысел. Писатель, на наш взгляд, достиг цели исторического повествования, сформулированную Н. А. Добролюбовым: «…оживить мертвую букву летописного сказания, вдохнуть живую душу в мертвый скелет подобранных фактов, осветить лучом поэтического разумения исторически темную эпоху, представить частную внутреннюю жизнь общества, о котором история рассказывает нам только внешние события и отношения» [4, с. 530].
К. Абрамов достоверно, в соответствии с эстетикой реализма, реконструирует взаимоотношения эрзянских племен с русскими князьями, булгарами, половцами, факты формирования феодальной государственности у эрзян и мокшан на рубеже XII–XIII вв. В русло повествования введены масштабные этногеографические описания, дающие сведения о расселении древней мордвы, взаимоотношениях с другими народами, углубляющие реалистичность стиля романа. «От Волги и до половецких кочевий на юге, от Оки и до Булгарской земли за Сурой раскинулась Мордовская земля. Половцы не пашут и не сеют. К зиме они уходят со своими многочисленными стадами далеко на юг, чтобы к весне вновь возвратиться на старые пастбища и прижаться к Мордовской земле. За Окой далеко на запад, север и юг простирается Русская земля. Русские, булгарские и половецкие земли стянули Мордовскую землю будто железным обручем…». Половцы всегда появляются неожиданно, будто градовое облако. Но град бьет только посевы. После набега половцев не остается ничего – они жгут дома, убивают и уводят людей, травят поля.
А к западу от мокшан – Рязанский князь. Его дружины тоже любят наведываться к ним. Но если половцы, опустошив мокшанские земли, снова уходят в свои степи, княжеские люди сами никогда не уходят. Захватив земли, леса и реки, они считают их своими. Грызут враги Мордовскую землю со всех сторон, будто моль точит бычью шкуру» [2, с. 22]. Изображение военных и культурных отношений эрзян с другими народами придает повествованию многогранность, разветвляет сюжетную линию.
Роман К. Абрамова следует расценивать как художественный экскурс в давно минувшую эпоху, дающий возможность современному читателю задуматься об этнических корнях, осмыслить истоки своего народа, провести связь времен. Ценность романа многократно увеличивается за счет следующего обстоятельства: писатель реанимирует реальную историческую личность – князя Пургаза – первого исторически известного эрзянского инязора, прогрессивного главу сильного и независимого рода, создателя дисциплинированного, хорошо обученного и вооруженного, боеспособного войска, талантливого полководца и государственного деятеля. Данный образ объединяет все сюжетные линии романа в единый узел, посредством его разрешается проблема личности и ее места в историческом процессе, вопросы взаимоотношений людей в сложной системе разнообразных связей (общественных, политических, семейно-бытовых, моральноэтических), реализуется образ средневекового человека, реставрируется национальный характер.
Справедливо говорить о том, что К. Абрамов рисует динамичный характер, статичные отношения, в авторской концепции, не способны передать эволюционный процесс. Его герой живет и развивается вместе с самой жизнью. Развитие и становление героя как незаурядной личности передает его динамичный портрет: «Почти все мужчины обрановского рода голубоглазые и светлые. Пургаз вышел в бабушку, унаследовал ее половецкую кровь, потому, видно, Вежава и любит его больше всех своих детей и внуков. Ростом он не велик, волосы кудрявые, темные, глаза черные, и даже лицо смуглое» [2, с. 123], – так описывает К. Абрамов своего девятнадцатилетнего героя.
К пятидесяти годам инязор раздобрел, расширился в плечах, шел, тяжело волоча ноги, в нем трудно было узнать стройного и быстрого Пургаза. В заботах о своей земле, о людях, об Обранов городке он рано поседел и постарел. Лицо его стало «землистое, изборожденное морщинами» [2, с. 311]. «Совсем побелел Пургаз – и бороду и голову его будто осыпало пушистым снегом. Гладкое и полное когда-то лицо словно съежилось и покрылось частой сетью морщин. Да и то сказать – семьдесят три года отметил этой осенью» [2, с. 416]. Перед читателем происходит метаморфоза: мальчик, юноша, мужчина-воин, старик, обремененный годами и властью. Портрет в данном случае выполняет функцию не только презентации внешнего облика персонажа, но и экспликации процесса становления и развития характера в целом.
В самом начале романа Пургаз – семилетний ребенок, который воспитывается в нравственно-этических традициях своей большой семьи, которую неоднократно постигали беды и трагедии (гибель членов семьи в столкновениях с русскими князьями, половцами). На первых страницах романа представлена символическая сцена: дед Обран отдает первый кусок жертвенного мяса Пургазу, самому младшему внуку от третьей жены Вежавы, хотя этнические правила требовали отдать его старшему сыну. С этой символической сцены читатель проникается мыслью об особой роли Пургаза в истории рода.
Юношеские годы своего героя К. Абрамов посвящает образованию и разнообразным наукам. Целеустремленный, талантливый Пургаз учится в булгарском Великом городе. Он демонстрирует незаурядные способности: владение иностранными языками, прекрасное знание Корана, тягу к естественным и техническим наукам. Свой багаж знаний герой реализует на родине, обучив мастеров производству стекла, железного оружия и т.д.
К тридцати годам Пургаз – сложившаяся личность, масштабно мыслящая, осознающая свою роль в обществе и ответственность за свой род. Эти качества помогли ему не только завоевать уважение и почитание народа, но и стать мудрым политиком, грамотным полководцем, военным тактиком и стратегом. Деятельность инязора разнообразна, охватывает практически все сферы жизни средневекового человека – от бытовой до политической. Основная роль Пургаза – в объединении эрзянских и мокшанских племен и родов. Он прекрасно понимал, что только сильный и единый народ способен противостоять агрессии врагов. Автор раскрывает сложности и противоречия процесса объединения, когда инязору приходилось включать не только организаторские способности, но и знание психологии человека.
Пургаз был сыном своего народа и своей эпохи. Вся его деятельность была направлена на благо людей, на создание условий менее опасного существования. Суровое время реализовало Пургаза как полководца и политика, борца за справедливость и свободу. В его характере отражены психологические черты эрзянского народа – правдивость, ответственность, свободолюбие. В многочисленных конфликтах и схватках Пургаз остался непобедим и непокорен. «Среди восточно-европейских правителей, приезжавших к Батыю за ярлыком на княжение, – отмечает В. К. Абрамов, – имя Пургаза не упоминается. Скорее всего он погиб, защищая одну из последних крепостей – один из последних клочков родной земли, за независимость и процветание которой боролся всю свою жизнь» [1, с. 41]. К. Абрамов в романе конкретно не изображает конца жизненного пути Пургаза, проводит мысль о том, что след инязора затерялся в дремучих лесах. Однако это не следует интерпретировать как недоработку автора. К. Абрамов в данном случае опирается на фольклорный опыт: народные предания не воссоздают факта гибели героя.
В романе «Пургаз» упоминается еще одна историческая личность – Пурейша (Пуреш), мокшанский князь конца XII – начала XIII века. Из исторических источников получаем сведения о том, что Пуреш был современником Пургаза и его основным соперником в борьбе за верховную власть над всей мордвой. Историк В. К. Абрамов пишет: «В двадцатых годах тринадцатого столетия Пуреш становится «ротником» (союзник, вассал) великого князя владимирского Юрия, наиболее сильного государя в поволжском регионе» [1, с. 43]. Пургаз же смог отстоять политическую независимость своего народа, что дает возможность историкам следующим образом оценить его роль в истории: «…не вызывает сомнения тот факт, что нахождение в эти трагические годы во главе крупнейшего мордовского княжества такого незаурядного деятеля как Пургаз, в немалой степени способствовало выживанию народа» [1, с. 40].
В стиле романа-сказания К. Абрамова «Пургаз» органично сочетаются историческая достоверность и традиции устного поэтического творчества мордовского народа, а также поэтический вымысел автора, что дает образец художественно-эстетической ценности, стилистической отточенности, позволяющий говорить о самобытной индивидуальноавторской концепции личности и истории, оригинальности мировоззрения и мировосприятия мастера слова, истинном его таланте и даровании.