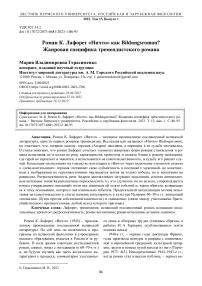Роман К. Лафорет «Ничто» как bildungsroman? Жанровая специфика тремендистского романа
Автор: Герасименко Мария Владимировна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 1 т.15, 2023 года.
Бесплатный доступ
Роман К. Лафорет «Ничто» - значимое произведение послевоенной испанской литературы, один из первых романов тремендизма. Исследователи называют «Ничто» Bildungsroman, но отмечают, что, вопреки канону, героиня (Андрея) пассивна, а перемена в ее судьбе неочевидна. В статье показано, что роман Лафорет сочетает элементы жанровых форм романа становления и романа испытания, но в целом по ряду характеристик хронотопа и сюжета ближе к роману испытания, где герой не взрослеет и меняется, а испытывается на самотождественность, и судьбу его решает случай. Концепция «испытания» на тождество воплощена в «Ничто» через включение элементов сюжета о «деве-воительнице»: героиня отстаивает свою субъектность в поединке с мужчиной, но константным в изображении их «противостояния» оказывается мотив не только победы, но и испытания на равенство. Ретроспективность речи Андреи запечатлевает ситуацию испытания, сочетая антиномичные интенции: попытка рассказчицы переосмыслить то, что случилось не по ее воле, сопровождается новым утверждением «внешней» воли над знакомым ей ходом событий и, таким образом, возвращает ее к тому положению, которого она изначально избегала. Предпосылкой актуализации мотива испытания на (само)тождество в статье названа популярность в культуре Испании 40-50-х гг. концепций «агонизма» (бунта против собственной конечности) и «каинизма» (связи между участниками братоубийственного противостояния, любой исход которого трагичен).
Лафорет, тремендизм, испанский послевоенный роман, испанские писательницы, хронотоп, ретроспективность, роман воспитания, роман испытания, агонизм, каинизм
Короткий адрес: https://sciup.org/147240447
IDR: 147240447 | УДК: 821.34.2 | DOI: 10.17072/2073-6681-2023-1-86-95
Текст научной статьи Роман К. Лафорет «Ничто» как bildungsroman? Жанровая специфика тремендистского романа
Роман К. Лафорет «Ничто» (1945) – прославленное произведение послевоенной испанской литературы. По сей день он включается в программы по испанской филологии в учреждениях высшего образования, издается в России и за рубежом. В поле зрения советских исследователей роман, однако, попал с опозданием (в 60–70-х гг.) и, не будучи изучаем как часть актуального литературного процесса, комментария удостаивал- ся лишь в обзорных трудах (главным образом, в работах И. А. Тертерян, опубликованных почти полвека назад).
1940-е гг. – первые годы диктатуры Франко, годы произвола цензуры и разрыва с национальной и европейской традицией, культурной автаркии, застоя и поиска путей выхода из него [Терте-рян 1973: 443]. Непосредственно 1944–1945-е гг., когда роман стал известен публике, – период не-
известности: и становления режима, и его нестабильности после Второй мировой [García-Ruiz 2009: 305].
Роман Лафорет сделался частью знаменательных явлений новой литературной жизни своего времени. Стал исторически первым лауреатом престижной премии «Надаль», был опубликован издательством «Дестино», которое, лавируя между ортодоксальной профранкистской и либеральной проевропейской позициями и апеллируя к ностальгии по культурному расцвету довоенных лет, в 40-е гг. славилось как радар новых эстетических тенденций [Ripoll Sintes 2015]. «Ничто» называют одним из основных произведений тремендизма ( tremendismo от исп. tremen-do – потрясающий, ужасный) – литературного течения 40–50-х гг., которое, будучи порицаемо той частью общества, чьи настроения можно охарактеризовать как созвучные риторике режима [Puértolas 2008: 642–644], надолго стало предметом споров и внимания политически и культурно ангажированных критиков, дававших ему противоречивые определения, споривших, в частности, о соотносимости его с экзистенциализмом. Сюжеты романов тремендизма содержат аллюзии на трагедии недавней гражданской войны и описывают события, кажущиеся переломными в судьбах героев.
Роман «Ничто» упоминают первым делом, когда говорят о Bildungsromans , появившихся в Испании в послевоенные годы, написанных женщинами и о женщинах и рассказывающих истории о взрослении так называемых сhicas raras – «исключительных девушек», которые, не мирясь с ролью лишь «ангела в доме», пересекают границу «домашнего» пространства, выходят в мир, предназначенный мужчинам, и сталкиваются с ограничениями, налагаемыми семьей, авторитарным обществом и доктриной национал-католицизма [Vadillo Buenfil 2012: 4–5].
Сомнения исследователей, уточнения, какими они сопровождают определение «Ничто» как Bildungsroman (называя его, например, «женской версией» Bildungsroman ), обосновываются ими тем, что героиня инертна, в романе нет описания перемен в ее характере и обстоятельствах [Jordan 1992: 108–114]. Предполагалось, что такая специфика связана с усложнением понятия «взросления» в ХХ в., с особенностями социокультурного фона консервативной национал-католи-ческой Испании и т. д. Мы же планируем, с оглядкой на литературный контекст появления романа, изучить его жанровую специфику как Bildungsroman через анализ функционирования в нем элементов жанровой формы Bildungsroman , рассматривая характер героини в связи с типами хронотопа и сюжета.
В работах, исследующих жанровую специфику «Ничто», в качестве критерия соотносимости с Bildungsroman часто называлось наличие в романе описаний перемены характера и положения героини. Жанровую форму Bildungsroman , где значительное внимание уделяется «моменту существенного становления человека», М. Бахтин называл романом становления [Бахтин 1986: 212–214] . Основываясь на этом, мы будем интерпретировать полемику исследователей о соотносимости «Ничто» с Bildungsroman как полемику о соотносимости именно с романом становления.
Анализ фабулы романа Лафорет и некоторых присутствующих в нем мотивов делает возможным прочтение его как романа становления.
В основе сюжета – ситуация ученичества, утраты иллюзий, сопротивления влиянию. Андрея (юная героиня, от чьего лица ведется рассказ) поступает в университет и, исполненная наивных надежд, из деревни переезжает в Барселону. На время учебы она останавливается у родственников, которых не видела с детства, – и едва узнает их, обезумевших от нищеты, ужасов недавней войны и репрессий, поражается убогости обстановки их дома на Арибау. Сперва она лишь испуганно наблюдает за их эксцентрическими выходками и с трудом сопротивляется их попыткам навязать ей свои взгляды, но в финале – достигает, как кажется, самостоятельности, личного и социального благополучия: переезжает в Мадрид к подруге Эне и ее родне, получает работу (Лафорет 2021: 112, 122). Описываемый период жизни героини имеет четкие симметричные границы, что побуждает, сравнив начальное и финальное положения, расценить его как переломный в ее судьбе [Jordan 1992: 105–106].
И все же такую интерпретацию сложно признать окончательной.
Сомнителен и вывод о «взрослении» Андреи (ее тяготы разрешаются не по ее воле, а в силу внешних причин), и утверждение о перемене в ее обстоятельствах (о том, что стало с ней после отъезда, – не сказано) [там же: 110–117]. Описание жизненных обстоятельств Андреи в начале и в конце романа намекает на их идентичность. Во-первых, она будто меняет одну отравленную болезненной экзальтацией семью на другую: Эне, в чьей семье Андрее предстоит жить, происходившее в доме на Арибау представлялось не страшным, а диковинным, забавляло ее; мать Эны одной из поворотных точек своего становления называет страдания, которые принесла ей влюбленность в Романа (дядю Андреи, садиста и манипулятора) (Лафорет 2021: 186, 256–263). Во-вторых, о Барселоне Андрея говорит с ностальгией, будто мечтая вернуть прошлое [Jordan
1992: 110–111], утверждает, что прежних иллюзий не имеет, но в Мадрид отправляется с теми же чувствами, с какими год назад прибыла в Барселону (Лафорет 2021: 314); конец истории как бы уравнивается с ее началом.
«Ничто не сбылось. Ничто. С пустыми руками уходила я с улицы Арибау», – отмечает героиня; «Так, по крайней мере, я тогда думала», – приводится следом оговорка Андреи уже с позиции «взрослой», ретроспективно говорящей Андреи-рассказчицы (Лафорет 2021: 314–315). Слова покидающей Барселону Андреи вторят названию романа. Утрата иллюзий («Ничто не сбылось») – что она значит здесь? Ознаменовано ли ею приближение к «истине»? Если, основываясь на утверждении, что, оставаясь «с пустыми руками», Андрея, на самом деле, что-то обрела, взглянуть на весь пассаж с позиций интуитивной логики, то он покажется «переворачивающим» свой смысл: коль уж Андрея, оставшись «ни с чем», – «обрела», то в итоге она осталась «с чем-то»; а раз осталась «с чем-то» (и находится в ситуации, противоположенной тому, чтобы остаться «ни с чем»), то нельзя ли, исходя из первоначального утверждения, заключить, что она – «не обрела»? «Что такое Ничто? <...> Задавая такой вопрос, мы заранее представляем Ничто как нечто, которое <...> ‘‘есть” – словно некое сущее. Но <...> от сущего Ничто абсолютно отлично. <...> вопрос о Ничто – что и как оно, Ничто, есть – искажает предмет вопроса до его противоположности. Вопрос сам себя лишает собственного предмета. <...> ответ на такой вопрос <...> невозможен» [Хайдеггер 1993: 18], – возможно, свет на смысл игры слов в финале «Ничто» прольет предположение о том, что Лафорет, изучавшая немецкий на Факультете философии и письма [Rolón-Barada, Masforroll 2019: 123], могла иметь представление о работах Хайдеггера: экзистенциализм в 40-е гг. был популярен, а труды Хайдеггера – известны и сравнительно доступны в Испании (он, в отличие от многих экзистенциалистов, чьи работы цензура строго запретила, не вступал в выраженное противоречие с национал-католической доктриной [Pérez 1987: 22–24]; перевод цитируемой нами лекции «Что такое метафизика?» (1929) был опубликован в Мадриде еще в 1931 [Martínez Garnica 2006: 104]). «‘‘Чистое бытие и чистое ничто суть <...> одно и то же”. <...> бытие <...> обнаруживается только в трансценденции выдвинутого в Ничто человеческого бытия», – для Хайдеггера Ничто не предмет анализа и точного определения, а фундаментальный опыт переживания. Приблизить этот опыт способно «настроение ужаса»: «предмет» ужаса, в отличие от предмета страха, неопределим, сущее «ускользает»; «…там, перед чем и по поводу чего нас охватил ужас, не было, ‘‘собственно”, ничего» [Хайдеггер 1993: 25, 21], – будучи организованы как последовательное отрицание, заключительные слова Андреи возвращают нас к началу, к эпиграфу – к строфе стихотворения «Ничто» Х. Р. Хименеса, одного из адептов символизма в Испании: вызывающие отторжение образы и смутно различимые ощущения бередят чувства героя, и переживание неразличимости, не-приятия наблюдаемого сливается с мыслью о близости к «неожиданной правде» (Laforet 1995: 7).
Приближение Андреи к «правде» важно в качестве именно не-различимого, ускользающего от достоверного определения. Случившееся с ней непостижимо: его эффекты могут представляться различными в «будущем» (в восприятии ретроспективно говорящей рассказчицы) и в «прошлом» (в восприятии героини). Дистанция между точками зрения взрослой Андреи-рассказчицы и юной Андреи-героини даже и в финале романа показана одновременно и непреодоленной, и необъяснимой.
В такой дистанции исследователи, оценивающие жанровую принадлежность романа, видят и намек на «взросление» Андреи, и повод усомниться в интерпретации «Ничто» как романа становления. Мы же добавим, что героиня существует в логике романа испытания (где герой уже изначально дан как готовый и, наблюдая за происходящей в мире переменой, сам остается неизменным, испытывается – на верность себе), а рассказчица – в логике романа становления (романа воспитания, где изображен момент становления героя, меняющегося вместе с миром, в который он погружен) [Бахтин 1986: 211–212].
Жанровые цитаты в речи рассказчицы эксплицируют попытку представить описываемые события так, чтобы закономерным результатом их казалась перемена мироощущения и ситуации героини. Так, роман Андреи с Понсом представляется вариацией популярной в патриархальной Испании 40-х гг. novela rosa («розового романа» – истории о любви, торжествующей вопреки препятствиям [Novela…]): между влюбленными – социальная разница, любовь обещает преобразить жизнь героини и ее саму, пробуждает в ней «грезу <…> рожденную <…> когда впервые читала сказку о Золушке» (обращение к этим формулам – признак novela rosa [Gallo 2016: 132– 133; Valero 2011: 34–36]). Понс приглашает Андрею на бал; она, кажется, надеется воплотить в жизнь канон novela rosa: «пожелала, чтобы это чудо свершилось, <…> Во сне я видела <…> свое чудесное превращение в <…> принцессу». Но на роскошном празднике бедно одетая Андрея ощущает себя лишней (Лафорет 2021: 235–238), с го- речью наблюдает неисполнение «обещанного» рассказчицей, поражается бессмысленности происходящего, чувствуя себя заложницей чужой воли: «…невозможно отказаться от нее [роли], освободиться» (Лафорет 2021: 244).
Разница между образами юной и взрослой Андреи – отражение борьбы с внутренне убедительным чужим словом и освобождения от него путем объективации его в образе «второй Андреи» (для героини ею является рассказчица, для рассказчицы – героиня). Противостояние с чужим словом изображается завуалированно (наиболее постоянен «спор» Андреи с собой, а не с внешним оппонентом); «воспитание» не делается прямо темой или сюжетом, а представляется отчасти скрытым, происходящим «вне произведения». Это, как можно заключить из классификации Бахтина [Бахтин 2012: 103–104], более характерно для романа испытания, чем для романа воспитания.
С романом испытания «Ничто» сближает не только динамика развития образа героини, но и ряд характеристик сюжета и хронотопа.
Вот что говорит Бахтин о времени в авантюрном романе испытания, для которого характерна разработка авантюрного времени [Бахтин 1986: 204]: «Исходная точка <…> [и] заключающая сюжетное движение точка <…> – существенные события в жизни героев <…>. Но роман построен не на них, а на том, что <…> между ними», однако при этом «…зияние между двумя моментами биографического времени, <…> следа <…> не оставляющее <…> как если бы между этими двумя моментами ровно ничего не произошло» [Бахтин 1975: 239–240].
Сюжет «Ничто», условно развиваясь между прибытием Андреи в Барселону и ее отъездом в Мадрид, включает множество приключений, не упоминающихся после разрешения локальной коллизии (таковы эпизоды с Понсом, со скандалами на Арибау). Из разрозненных, на первый взгляд, историй складывается и сравнительно постоянная линия скрытого сопротивления Андреи власти Романа.
За основу конфликта в «Ничто» можно принять нарушение душевного равновесия Андреи, когда она, вырвавшись из деревни в Барселону в ожидании свободы, сталкивается с несвободой: ее дядя Роман твердит ей, что в доме на Арибау она лишь зритель драм, разворачивающихся по его воле; так он (сам будучи художником) будто ставит под сомнение способность Андреи быть «автором» своей судьбы и описываемых в романе событий (Лафорет 2021: 56–57, 111–112). История, где субъектность героини испытывается в поединке с мужчиной, в рассматриваемом случае, возможно, восходит к архаическим, по- пулярным в модернистские эпохи сюжетам о «деве-воительнице». Черты «воительницы» [Зу-сева-Озкан 2021: 24–41] присутствуют в облике Андреи. Она сражается не на своей гендерной территории (на Арибау – патриархальный уклад) (Лафорет 2021: 303–304) и противопоставлена «нормативно» женственным героиням: некрасива, негодует от притязаний откровенно маскулинного Херардо (там же: 166–167).
Поединок «воительницы» с мужчиной может быть не лишен эротического напряжения, прямое разрешение которого грозит ей утратой прежней идентичности и силы [Зусева-Озкан 2021: 42, 27]. Коренящимся не в сюжете «Ничто», а именно в прототипическом сюжете о «воительнице» атавизмом подобного извода противостояния Андреи и Романа выглядят необоснованные подозрения родни об их связи (Лафорет 2021: 219), которые, и без того шокируя героиню, звучат на фоне разговоров о его подлых любовных победах.
Так, Андрея с тревогой догадывается о взаимном интересе своего дяди, сломавшего немало женских судеб, и Эны, любимой подруги, красавицы, которая, всю жизнь будучи объектом восхищенного преклонения, попала, не подозревая, как кажется, об опасности, под чары Романа.
Однажды ночью Андрея случайно слышит, как Глория уличает Романа в страсти к Эне. Испугавшись за Эну, Андрея спешит поговорить с ней, но не застает ее; ищет ее, но, уже стоя у стен до дома, где та находится, убегает, испугавшись внезапного движения на террасе (там же: 225–231).
Вскоре Маргарита, мать Эны, рассказывает Андрее о том, что сама была влюблена в Романа, лишь насмехавшегося над ее чувствами и забавлявшегося властью над ней, и только появление Эны освободило ее от страсти к нему. Родив дочь, она увидела в ней свое продолжение. Боясь, что когда-нибудь Эна, будущая женщина, повторит судьбу своей несчастной матери, Маргарита как бы увидела собственные чувства и опыт «отчужденными» в ней, сделалась способна на сопереживание. Одновременно она увидела в своей красивой и уверенной дочери «другого», какую-то силу, какой не имела сама, – и ощутила, что связь с Эной меняет и ее саму. «… [мое] собственное творенье <…> [я] создала ее почти против воли», «…это она сделала меня такой, какая я теперь», «…открыла мне глаза на тонкую основу жизни» (Лафорет 2021: 257–260), – «творение» – так Маргарита называет дочь (исп. obra (Laforet 1995: 237) привычно в значении «произведения» как плода творчества, направленной деятельности [Moliner 2006: 478]): монолог Маргариты читается как философское отступление об опыте творчества, который отвращает от «расчета», от манипуляции реально- стью и тем спасает от утраты ее. Лишающий «точного знания» о себе и мире опыт приближения к «творению», любви к Эне показал иллюзорность власти Романа, построенной на спекуляции чувствами.
Здесь как будто звучит прославление женственности: и материнства, и того загадочного очарования, что свойственно Эне, любовь к которой оказывается спасительным откровением, возвышает и превращает любящего в поэта (ведь в монологе Маргариты о «творении» как будто наиболее полно высказаны рефлексии, которые могли бы звучать из уст самой Андреи как «автора»).
Вскоре после разговора с Маргаритой о своих отношениях с Романом Андрее скажет и Эна, раскрыв, что они были лишь поединком, из которого она вышла победителем; потом Роман внезапно покончит с собой, и Глория, когда-то соблазненная и опозоренная им, признается Андрее, что к самоубийству его подтолкнул ее донос на него (Лафорет 2021: 287, 68, 227, 310).
Примечательно, что, хотя Роману противостоит эмансипированная Андрея, губят его женщины, чья модель поведения соответствует патриархальному стереотипу. Андрею же любовные приключения дяди задевают, но ее участие в них ограничено ролью соглядатая, да и в той она оказывается лишь по воле случая, бессильная на что-либо повлиять. Постепенное раскрытие происходящего перед ней и есть основное действие ее рассказа, и случайность (определяющая если не ход событий, то узнавание о них героиней, из уст которой услышит о них читатель) приобретает качество причинной, «инициативной», присущее ей в авантюрном времени [Бахтин 1975: 247].
Степень определенности и предсказуемости мира, где власть принадлежит случаю, – ограничена: все в нем странно и удивительно. С этим согласуется характерный для авантюрного времени курс на вытеснение исторической и прочей конкретики (ведь при наличии ее происходящее легче идентифицировать или как тривиальное и предсказуемое, или как несомненно выбивающееся из общей закономерности). «Не может быть <…> речи об исторической локализации авантюрного времени. <…> отсутствуют всякие приметы <…> эпохи» [Бахтин 1975: 241], – любопытно, что в романе Лафорет причиной «отсутствия примет эпохи» могли стать в том числе и обстоятельства издания текста: в результате (са-мо)цензуры были удалены, например, главы, где действие связано с узнаваемыми реалиями послевоенной Барселоны, и, возможно, слово «гражданская», вносившее определенность в упоминания недавней «[гражданской] войны» [Rolón-Barada 2016: 122–125]. Возможно, резуль- татом самоцензуры является и то, что исторические события непосредственно в сюжетах тре-мендистских романов места обычно не находят, об их предположительной роли в бедах героев если и говорится, то с подчеркнуто субъективных позиций: о том, что происходило на Арибау в годы войны, известно лишь по обрывкам воспоминаний второстепенных героев (Лафорет 2021: 63–75).
Вероятно, рефлексия над подобной ситуацией создания текстов отражена в «Семье Паскуаля Дуарте» К. Х. Селы (1942), первом романе тре-мендизма: переписчик исповеди приговоренного к казни Паскуаля, выступая в роли «цензора», признается, что удалил из нее некоторые фрагменты. Предположение, что Паскуаль был участником гражданской войны (и, как может догадаться читатель, убивал не по наитию, а в пылу боя), высказано не прямо в исповеди, но завуалированно, в кратких чужих примечаниях после нее (Cела 1980: 24, 109), заставляющих задуматься о справедливости понимания ее только как истории о роковых случайностях и страстях, уводивших, как в романе испытания, героя от «нормального» (исторического, биографического) хода жизни [Бахтин 1986: 203–204].
«Сугубо личные», изолируемые от внешнего контекста истории тремендистских героев приобретают характерное для «авантюр» свойство «переместимости» [Бахтин 1975: 250], приближаются к сюжетам, которые могли бы иметь место когда угодно: биографическое время, даже остро ощущаемое психологически, – лишается локализации в целом жизненного процесса, не может стать основой этапа биографии героя [Бахтин 1986: 204–205]. В связи с этим, вероятно, в «Ничто» сказано лишь о годе жизни Андреи и нет уточнений о его значении в ее судьбе.
Неоднозначность утверждения о перемене в характере и обстоятельствах героини закономерна. «Каким может быть образ человека в условиях <…> авантюрного времени, <…> с исключительной инициативностью случая в нем? <…> пассивным и абсолютно неизменным <…> тождество с самим собой – организационный центр образа человека» [Бахтин 1975: 255–256], – Андрея не просто слишком «пассивна» для Bild-ungsroman , как отмечали исследователи, а испытывается на «самотождественность».
«Самотождественность» Андреи проблемати-зируется и в ретроспективной форме ее рассказа, формальный атрибут которой – дистанция между прошлым и будущим, между «наивной» и «мудрой» ипостасями говорящего (эта дистанция и отражена в противопоставлении точек зрения героини и рассказчицы и интерференции корреспондирующих им жанровых форм).
Увиденное из будущего событие прошлого в сознании приобретает черты предназначения [Лотман 2000: 111]. Как попытка рассказчицы придать нелепым событиям смысл для героини обернулась столкновением с бессмысленностью нарратива novela rosa , в канон которого никак не вписывалось переживаемое ею, – так и вообще обращение к прошлому, сопряженное с потребностью субъекта ретроспективной речи переосмыслить в более приемлемом для самого себя виде нечто [там же], произошедшее не по его замыслу, сопровождается новым утверждением некой «внешней» воли над известным ему ходом событий, тем самым возвращая его к положению, которое изначально и было ему отвратительно. С этой точки зрения закономерно, что ближе к финалу романа мысль, будто Андрея обретает «субъектность» и свободу, неизбежно сопровождается предчувствием, что всё, терзавшее ее, повторится заново, с точностью до наоборот обманув ее ожидания от новой жизни в Мадриде.
Подобные коллизии в целом характерны для тремендистских романов. Их герои ретроспективно говорят о сломавшем их жизнь событии, итог своих действий ощущая как непереносимый и угрожающий; достижение ими желанной цели ставит их в двусмысленное положение, оказывается гибельным для них.
Так и записки Паскуаля кончаются сценой, где он убивает свою мать, в злонравии которой видел источник собственной горькой судьбы и преступлений; детали в изображении расправы намекают, что, зарезав мать, он буквально «рождается» заново, для новой жизни, – но сразу следом приводится текст сообщающих уже о казни самого Паскуаля писем сотрудников тюрьмы, находясь в которой он и поведал миру свою историю. Он меняется с матерью местами, становится тождественен ей: она оказывается «жертвой», какой представлялся сам (имя Паскуаль, Pascual от исп. Pascua – «Пасхальный»; в сцене убийства кровь матери сравнивается с «овечьей» (агнца) (Cела 1980: 107)). Так же и в изображении «поединка» Андреи и Романа акцентируется не столько их оппозиция, сколько константный для сюжетов о «воительнице» мотив равенства между ней и противостоящим ей героем [Зусева-Озкан 2021: 37]: «боевые» функции Андрея в своем рассказе о «поединке» с дядей атрибутирует другим героиням, но ее собственное с ним «равенство» упрочено кровным родством, которое в сюжетах о «воительнице» закрепляет за иными отношениями оппонентов антиномическое свойство «“невозможности” при глубинной взаимной предназначенности» [там же].
И. А. Тертерян проницательно отметила, что тремендистские герои близки «агонистам» ис- панского писателя и философа М. де Унамуно [Тертерян 1973: 448–449]. Действительно: в том, как они агонизируют на границе двух своих ипостасей, можно усмотреть «желание быть таковыми или <…> желание не быть таковыми, независимо от той реальности, которую приписывают им» [Унамуно 1981: 6]. Вместе с тем концепция агонизма Унамуно не сводится к аксиоматизации антиномичности: «чистые» «желание быть» и «желание не быть» (воплощающие отчаянный порыв агониста к «реальности», к обретению субъектности, свободы от воли «автора») – специально противопоставлены «не желанию быть» и «не желанию не быть», «сумеречным» [там же: 6, 11], производным от чего-то, им противоположного, а герои, ведомые ими, – безжизненны, остаются не «воображенной тенью», а «тенью воображения» автора [там же: 13], – вторичным, несамостоятельным отражением чужого сознания. Чужд ли «сумеречных» побуждений тремендистский «агонист»?
Определение «агонии», ссылаясь на М. де Унамуно, делает отправной точкой своих рассуждений родоначальник тремендизма К. Х. Села в докладе «Об Испании, испанцах и испанском», но сосредоточивается на проявлениях в национальном характере вторичного, всегда производного от внешнего и противоположного, «сумеречного» « не желания (не) быть». Не пытаясь заключить о том, была ли история предпосылкой формирования национального сознания и «Испании» как концепции, или наоборот, К. Х. Села пространно говорит об «испанской сути», «испанской проблеме» [Cela 1961: 225–226, 228], обращается к примерам из биографий знаменитых испанцев, из культуры страны и ее истории, в которой многовековые войны чередовались с периодами мирного сосуществования разных рас, культур и религий, – можно сказать, размышляет о взаимодействии в сознании понятий «своего» и «чужого» в широком смысле: о том, как «чужое» поселяется в «своем» и обнаруживает себя в нем.
Села отмечает, что битва испанца со «своим», если он этим «своим» недоволен, идет исключительно в отражении «чужого»: «зависть» терзает испанскую душу [ibid.: 233]. Процесс же отвоевания испанцем «своего» у «чужого» со временем приобретает качество не «отвоевания», а имманентной борьбы, и тогда «свое» уже само по себе ощущается как поле боя, источник неуверенности и опасности [ibid.: 230, 236]. «Рознь гражданская бьется в каждой груди <…> для ее начала даже двоих испанцев не нужно: хватит и одного» [ibid.: 233 – 234].
Слова родоначальника тремендизма о «чуже-сти» своего как бы эксплицируют ужас тремен- дистских героев перед собой, «своим» и слепое сопротивление собственной «завершаемости», – будто та, в каком бы из возможных положений ни воплотилась, угрожала бы им. Может ли такой герой о своем «становлении» сказать без содрогания?
Испания, «исторически разделенная на две половины, каждая из которых делится еще, а потом еще и еще на две <…> умножается в зеркалах, покуда хватит глаз» [Cela 1961: 225]; «свое» – теряется в отражениях. Даже в гражданской войне, по мнению Селы, один из испанских фронтов осознавал себя как анти -марксистский, другой – как анти -фашистский: братоубийственное противостояние представляется ему одной из эманаций константного в испанском сознании стремления идти « против течения» [ibid.: 226]. Может ли герой, плутающий в отражениях, отважиться на победу над ними?
Сюжет «каинизма», популярный в испанской литературе, в широком смысле аллегорически отсылает к ситуации противопоставления себя другому, а в узком – к братоубийственной войне 1936–1939 гг.; литературоведы, говоря о «каи-низме», зачастую имеют в виду мотив противостояния между братьями [Rossi 2018: 85–102]: один брат убивает другого или наблюдает его смерть и гибнет сам. Но «каинова» вражда, та «зависть», которую Унамуно называл « Каиновой печатью » испанского характера [Унамуно 1981: 255], едва ли сводима к досаде на благополучие противника и жажде одержать верх над ним.
В «Ничто» мотив «каинизма» явно реализован в отношениях дядьев Андреи, Романа и Хуана. Однако Роман соперничал не только с Хуаном, но и с Андреей. Напрашивается аналогия: как Хуан после смерти Романа от горя сошел с ума, так и Андрея, тяжело тосковавшая по дяде (Лафорет 2021: 306), уйдя из дома на Арибау, не вырвалась на свободу, а стала скиталицей, как Каин. Субъектность, обретаемая через «победу» над ближним, скомпрометирована (и в истории Романа, и в переживаниях тех, кто вышел победителем из поединка с ним).
В сознании изувеченного гражданской войной общества пульсировала мысль, что триумф приходит рука об руку с поражением; уже в начале 40-х она нашла отражение в романах тремендиз-ма, а позднее, к концу 50-х гг., стала частью официальной риторики режима, откликнувшегося на общественный запрос о примирении «двух Испа-ний» [История… 2014: 601 – 602]. В 1989 г. родоначальник тремендизма Села получил Нобелевскую премию за «… прозу <…> о ранимости человеческой натуры» [Лекции… 2003: 120].
Концепция испытания на тождество (себе, противнику) лежит в основании проблематики и поэтики тремендистских романов. Жанровая про-теистичность романа «Ничто» как Bildungs-roman, двусмысленность его финала, условность утверждения о перемене в судьбе и характере героини – эти особенности сюжета и поэтики тесно связаны с движениями общественной мысли и актуальным литературным контекстом послевоенной Испании.
Список литературы Роман К. Лафорет «Ничто» как bildungsroman? Жанровая специфика тремендистского романа
- Бахтин М. М. Роман воспитания и его значение в истории реализма // Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1986. 445 с.
- Бахтин М. М. Слово в романе // Бахтин М. М. Собрание сочинений в семи томах. Т. 3: Теория романа (1930-1961 гг.). М.: Языки славянских культур, 2012. С. 9-179.
- Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе // Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М.: Худ. лит., 1975. 810 с.
- Зусева-Озкан В. Б. Пролегомены / Дева-воительница в литературе русского модернизма: образ, мотивы, сюжеты. М.: Индрик, 2021. 712 с.
- История Испании. Том 2. От войны за испанское наследство до начала XXI века / Ин-т всеобщей истории РАН; под общ. ред. О. В. Воло-сюк, М. А. Липкин, Е. Э. Юрчик. М.: Индрик, 2014. 872 с.
- Лекции и речи лауреатов Нобелевских премий в русских переводах: 1901-2002. СПб.: БАН, 2003. 168 с.
- Лотман Ю. М. Культура и взрыв. СПб.: Искусство-СПб, 2000. 152 с.
- Тертерян И. А. Испытание историей: Очерки испанской литературы ХХ в. М.: Наука, 1973. 526 с.
- Унамуно М. де. Испанская зависть // Унамуно М. де. Избранное: в 2 т. Л.: Худ. лит. (Ленингр. отд-ние), 1981. С. 249-257.
- Унамуно М. де. Три назидательные новеллы и один пролог // Унамуно М. де. Избранное: в 2 т. Л.: Худ. лит. (Ленингр. отд-ние), 1981. С. 5-93.
- Хайдеггер М. Что такое метафизика? // Хайдеггер М. Время и бытие. М.: Республика, 1993. С.16-26.
- Cela C. J. Sobre España, los españoles y lo español // Cuatro figuras del 98: Unamuno, Valle Inclán, Baroja, Azorín y otros retratos y ensayos españoles. Barcelona: Aedos, 1961. Р. 225-240.
- Gallo M. S. Novela rosa y fantasía amorosa en la España de los años cuarenta: análisis de La rival de Julieta de Josefina de la Torre // Aleph. Salamanca, 2016. № 8. Р. 128-148.
- García-Ruiz V. Juan Ramón en la calle Aribau: notas sobre "Nada", de Carmen Laforet // Ars bene docendi Homenaje al Profesor Kurt Spang. Pamplona: EUNSA, 2009. Р. 305-317.
- Jordan B. Laforet's Nada as Female Bildung? // Symposium: A Quarterly Journal in Modern Literatures. New York, 1992. Vol. 46, № 2. Р. 105-118.
- Martínez Garnica A. Crónica de la recepción de Heidegger en Hispanoamérica // Santander. 2006. № 1(1). Р. 102-124.
- Moliner M. Diccionario de uso del español. T. 2: I-Z. Madrid: Gredos, 2006. 1597 p.
- Novela rosa // Diccionario de la lengua española / La Real Academia Española (RAE). URL: https://dle. rae.es/novela?m=form#5Xfn5n1 (дата обращения: 09.06.22).
- Pérez Ó. B. La novela existencial española de posguerra. Madrid: Gredos, 1987. 306 p.
- Puértolas J. R. Historia de la literatura fascista española. Madrid, 2008. Vol. 157. 1344 р.
- Ripoll Sintes B. La revista Destino (1939-1980) y la reconstrucción de la cultura burguesa en la España de Franco / Amnis. Revue d'études des sociétés et cultures contemporaines Europe/Amérique. 2015. № 14. URL: https://journals.openedition.org/amnis/ 2558 (дата обращения: 11.06.22).
- Rolón-Barada I. Carmen Lafore''s Inspiration for Nada (1945). Spanish Women Writers and Spain's Civil War. New York: Routledge, 2016. Р. 116-128.
- Rolón-Barada I., Masforroll A. C. Carmen Laforet. Una mujer en fuga. Barcelona: RBA Libros, 2019. 624 p.
- Rossi C.A.D.R. Filhos da guerra, cainismo e protagonismo infanto-juvenil em Los Abel (1948), de Ana María Matute e Duelo en El Paraíso (1955), de Juan Goytisolo / Doct. diss. Santa Maria, 2018. 156 p.
- Vadillo Buenfil C. J. El Bildungsroman en las narradoras españolas de posguerra:1940-1960: Tesis doctoral. Universidad Autónoma de Madrid. Madrid, 2012. 406 p.
- Valero E. A. Cincuenta años de usos amorosos: El amor y la novela rosa // Ogigia. Revista electrónica de estudios hispánicos. 2011. № 9. Р. 33-43. URL: https://web.archive.org/web/20171 202095047id /http://www.ogigia.es/OGIGIA9_files /ALONSO.pdf (дата обращения: 05.04.22).