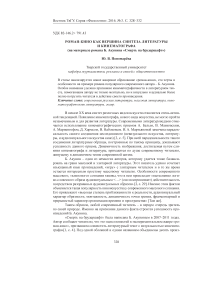Роман-кино как вершина синтеза литературы и кинематографа (на материале романа Б. Акунина "Смерть на брудершафт")
Автор: Пономарва Юлия Владимировна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Голоса молодых исследователей
Статья в выпуске: 3, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется новое жанровое образование «роман-кино», его черты и особенности на примере романа популярного современного автора – Б. Акунина. Особое внимание уделено признакам кинематографичности в литературном тексте, помогающим автору не только ментально, но и визуально и аудиально более полно погрузить читателя в действие своего произведения.
Современная русская литература, массовая литература, кинематографичность литературы, жанр
Короткий адрес: https://sciup.org/146121912
IDR: 146121912 | УДК: 82-146.2+
Текст научной статьи Роман-кино как вершина синтеза литературы и кинематографа (на материале романа Б. Акунина "Смерть на брудершафт")
В начале XX века синтез различных видов искусств становится очень активной тенденцией. Появление кинематографа, нового вида искусства, не могло пройти незамеченным и для развития литературы. Современными литературоведами отмечается использование кинематографических приемов А. Белым, В. Маяковским, А. Мариенгофом, Д. Хармсом, В. Набоковым. И. А. Мартьяновой замечена парадоксальность самого соединения несоединимого (невизуального искусства, литературы, и аудиовизуального искусства кино) [3, с. 5]. При всей парадоксальности такого соединения литературные образцы, построенные по такому принципу, доказывают успешность данного приема. Динамичность изображения, достигаемая путем слияния кинематографа и литературы, приходится по душе современному читателю, живущему в динамичном темпе современной жизни.
Б. Акунин – один из немногих авторов, которому удается тонко балансировать на грани массовой и элитарной литературы. Этот писатель удачно сочетает изысканный язык произведений, «игру» с элитарным читателем и в то же время остается интересным простому массовому читателю. Особенности современного массового, «клипового» сознания таковы, что в нем происходит «вытеснение логико-словесного образа аудиовизуальным <…> (оно воспринимает) действительность посредством разорванных аудиовизуальных образов» [2, с. 29]. Именно этим фактом объясняется такая популярность киноискусства у современного массового сознания. Его привлекают «высокая степень приближенности к реальности, аудиовизуальный характер образности, монтажность, динамичность точки зрения, фрагментарный и прерывистый характер организации времени и пространства» [Там же].
Таким образом, любой современный читатель – в первую очередь зритель по своей природе. Именно на признании данного факта строится успешность произведений Б. Акунина.
«Смерть на брудершафт» была написана Б. Акуниным в 2007–2011 годах. Автор сообщает читателю, что это «цикл повестей в экспериментальном жанре «роман-кино», призванном совместить литературный текст с визуальностью кинемато-графа»[1, с. 4]. Под одной обложкой и одним названием объединены десять произ- ведений: «Младенец и черт», «Мука разбитого сердца», «Летающий слон», «Дети Луны», «Странный человек», «Гром Победы, раздавайся!», « «Мария», Мария…», «Ничего святого», «Операция «Транзит», «Батальон Ангелов». Каждое из них имеет подзаголовок: «Фильма Первая», «Фильма Вторая», «Фильма Третья» и т. д.
В данной статье мы постараемся проследить, как используются в «Смерти на Брудершафт» Б. Акунина на разных уровнях текста кинематографические приемы. Остановимся на первом романе «Младенец и Черт», в котором описывается начало противостояния российской и германской разведок в Первой мировой войне. В этом романе читатель знакомится с главными героями цикла – германским шпионом Йозефом фон Теофельсом (Зеппом), его верным помощником Тимо и русским контрразведчиком Алексеем Романовым и его начальником князем Козловским.
В своей монографии «Кинематограф русского текста» И. А. Мартьянова пишет, что литературная кинематографичность – это «характеристика текста с преимущественно монтажной техникой композиции, в котором различными, но прежде всего композиционно-синтаксическими средствами изображается динамическая ситуация наблюдения. Вторичными признаками кинематографичности являются слова лексико-семантической группы КИНО, киноцитаты, фреймы киновосприятия (крупный план, стоп-кадр, замедленная съемка, обратное прокручивание киноленты и др.), образы и аллюзии кинематографа, функционирующие в литературном тексте» [3, с. 7]. Проследим, как в романе «Младенец и Черт» проявляются названные признаки.
Кинематографические (визуальные) особенности романа читатель замечает с самой первой страницы: автором предлагается заставка к фильму, стилизованная под начало XX века. На обложке к первой части цикла романов мы видим: «Фильма Первая. Младенецъ и чортъ. Комедiя. Операторъ г-нъ И. Сакуровъ. Тапёръ г-нъ Б. Акунинъ». В разных печатных изданиях этого романа используется одна и та же заставка, что дает возможность говорить об авторском замысле, а не о прихоти художника-оформителя. Использование дореволюционной орфографии («ъ» на конце существительных после твердых согласных, упраздненная впоследствии «i» и др.) становится также дополнительным средством визуализации, используемым автором для более полного погружения читателя в атмосферу той эпохи, когда происходят события романа. Таким образом, в самой сильной позиции текста (обложка, то, что читатель видит в самую первую очередь) кинематографичность (визуализция) используется автором на всех уровнях: грамматическом ( Фильм а первая ), орфографическом ( Ъ, I ) и синтаксическом (использование коротких односоставных предложений), – помимо использования собственно графических способов выражения визуализации – рисунков.
Каждая глава романа начинается с заставки-титра, отделенной от основного текста рамкой. Содержание таких титров в основном сводится к описанию хронотопа той или иной главы: это либо указание на историческую ситуацию («Июль 1914 года. Эрцгерцог убит. Мировая война начнется со дня на день. Но пока это понимают лишь профессионалы» [1, с. 7] и т.д.), либо описание конкретного места действия («Некий дом на тихой улице» [Там же, с. 28], «В контрразведке» [Там же, с. 31], «В Царском селе» [Там же, с. 35], «На Предтеченской, 5» [Там же, с. 44], «На верхнем этаже» [Там же, с. 49] и т. д.), либо определение точного времени происходящих событий («А тем временем» [Там же, с. 22], «Четвертью часа позднее» [Там же, с. 41], «Четвертью часа ранее» [Там же, с. 46], «За десять секунд до этого» [Там же, с. 54], «Миновало шесть дней» [Там же, с. 60] и т. д.), либо указание на время и место действия одновременно («В тот же вечер на платформе Левашево…» [Там же, с. 11], «Четвертью часа ранее на близлежащей даче» [Там же, с. 19] и др.). Таким образом, на уровне выделения глав автором также используется кинематографический прием, создающий у читателя иллюзию погружения в кинофильм. Конкретность, точность и однозначность данных титров также сближают текст с романа с произведением кинематографа.
Литературоведами отмечается, что кинематографичность текста проявляется на уровне структуры произведения следующим образом: в тексте появляется «межкадровый» (смена кадров) и «внутрикадровый» монтаж [2, с. 29]. Такие приемы мы обнаруживаем в романе в большом количестве. Пример динамичной смены кадров, где автор описывает побег и задержание резидента:
«Подоспевший Лучников ахнул, увидев, что у арестованного отчаянно работают челюсти, густая черная борода так и колышется. Пантелей Иванович присел на корточки и попробовал пальцами разжать шпиону зубы, но тот судорожно сглотнул. Слопал листок, сволочь.
Козловский, как и подобает начальнику, вышел на перрон не торопясь, так что и хромоты было почти не заметно…» [1, с. 15].
У читателя создается впечатление, что он видит происходящее через объектив камеры: сначала арестованного и Лучникова, затем происходит смена кадра и внимание камеры и читателя переключается на Козловского.
Под внутрикадровым монтажом подразумевается изменение масштаба изображения – укрупнение плана, удаление камеры и т. д.: «В кабинете у штабс-рот-миства собралась кипа газет, в том числе пожелтевших, десятилетней давности. В каждом номере красным карандашом подчёркнуты соблазнительные объявления: “До 15 тысяч годового дохода могут заработать гг. офицеры, чиновники и лица, вращающиеся в высших кругах общества, в качестве представителей заграничной фирмы”…» [Там же, с. 8]. Показывая сначала панораму кабинета штабс-ротмистра, камера затем наезжает на отдельную газету и крупным планом демонстрирует конкретное объявление.
Следует отметить и довольно часто встречающиеся в книге иллюстрации (в различных изданиях они повторяются, что также позволяет говорить об авторском замысле). Каждая иллюстрация сопровождается ремаркой и небольшим музыкальным отрывком, ноты которого также обнаруживает читатель. Таким способом автор подключает аудиальный способ погружения читателя в действительность романа.
Таким образом, на структурном уровне мы наблюдаем практически полное слияние литературных и кинематографических черт в новом литературном жанре – романе-кино. Так или иначе практически каждый элемент структуры данного произведения (связь глав, эпизодов в одной главе и т. д.) выявляет значимость кинема-тографичности (визуализации) в новом жанровом образовании.
Наряду со структурными кинематографическими приемами, кинематогра-фичность этого произведения проявляется и на языковом уровне.
Образы персонажей и специфика места действия раскрываются за счет использования фонической (звукоподражательной) лексики: передача особенностей акцента, произношения слов тем или иным персонажем («И тем же тоном прибавил…» [Там же, с. 13], «Что ви позволяйт! Больно!» [Там же, с. 15], «Зиняк. При-шель – пустая рука… Кто лицо побиваль?» [Там же, с. 29], «Рррросия уррра!» [Там же, с. 29] и т. д.), описание звукового оформления каждой сцены романа («Стало совсем тихо» [Там же, с. 13], «Затрещали кусты, загрохотали ступеньки, ночь наполнилась топотом, кряхтением, возгласами» [Там же, с. 14], «Со стороны улицы под забором копошилась какая-то куча мала. Вот откуда, оказывается, неслись сипы и хрипы» [Там же, с. 27]). Такие приемы дополняют и более полно воссоздают зрительный образ.
Внутренние переживания героев раскрываются посредством лексики, описывающей внешние проявления чувств: «К девяти часам он весь извелся, нефритовый папиросный мундштук прогрыз чуть не насквозь » [Там же, с. 11] (здесь и далее курсив мой. – Ю. П.), «От нервов штабс-ротмистр всё покачивался с каблука на носок и докачался , подвернул покалеченную ногу» [Там же, с. 12], «И Рябцев тоже выглядел обескураженным. Завертелся на месте, зазвенел ножнами сабли » [Там же, с. 13], « Симочка заплакала – так оскорбило ее нежную душу циничное словосочетание…» [Там же, с. 22]. Следует отметить и практически полное отсутствие метафор в тексте романа, что «позволяет избежать многозадачности и неясности образов, достичь объективности и точности повествования, а также сводит к минимуму когнитивные усилия читателя при восприятии текста» [2, с. 32].
Использование такого рода языковых средств в авторском повествовании и в репликах героев позволяет более полно погрузить читателя в происходящее. «Эстетическая манипуляция звуком в кино стимулировала изображение спонтанной устной речи, а тотальная зримость кинематографа усилила тенденцию показа в литературе, что заставило авторов в большей мере изображать поступки персонажей, а не объяснять их, повлияв тем самым и на характер читательского восприятия» [3, с. 12], – именно такое объяснение дает И. А. Мартьянова выбору определенных слоев лексики и тропов в тех случаях, когда перед автором стоит задача создания кинематографического (визуального) текста.
Еще одним немаловажным, а возможно, и самым значимым элементом кинематографического текста становится подвижность точки зрения. Читатель воспринимает действие романа сквозь призму сознания одного или другого персонажа. Сменой точки зрения достигается эффект слежения за происходящим в романе камерой, снимающей действие с позиции того или иного героя. Исполняющего арии и серенады Алёшу Романова, возлюбленного Симы Чегодаевой, мы видим сквозь призму взгляда Антонины Николаевны, Симочкиной мамы: «Да, чрезвычайно опасен , думала Антонина Николаевна. Черный смокинг в сочетании в накрахмаленной рубашкой и белым галстуком всем мужчинам к лицу , а уж этот – просто принц. Опять же баритон. Промедление смерти подобно. Бедная Сима » [1, с. 21]. Тут же происходит смена точки зрения, и мы как бы сквозь объектив камеры уже теперь видим саму Антонину Николаевну: «Во взгляде, брошенном на дочь, читались сочувствие, но в то же время и твердость» [Там же, с. 21].
Говорить о смене точки зрения позволяют определенные маркеры, встречающиеся в тексте повествования: неожиданно появляющиеся вопросительные, восклицательные или иные эмоциональные конструкции. В самой первой сцене среди конструкций, описывающих состояние генерала: «Генерал был не в духе и пил черный кофе третий раз за день, что неполезно для сердца и желудка…» [Там же, с. 7], – мы обнаруживаем эмоциональные вкрапления в текст: «…что неполезно для сердца и желудка. А что делать? Из-за выстрела в Сараеве третьи сутки почти вовсе без сна. Спасибо за такое повышение. В Департаменте полиции, с бомбистами и пропагандистами, было и то покойней » [Там же, с. 7]. Именно благодаря таким репликам-вкраплениям читатель понимает, что произошел переход от авторской речи к повествованию от имени определенного героя: камера как бы перешла с общего плана на крупный – на изображение от лица определенного героя.
Таким образом, мы проследили способы реализации кинематографичности в романе Б. Акунина «Младенец и Черт» на различных уровнях организации тек- ста: от структурно-композиционного до лексического. Первоначальное авторское жанровое определение «роман-кино», несомненно, свидетельствует, что это произведение станет своеобразной квинтэссенцией кинематографических приемов в литературном тексте. Практически каждое слово, каждая фраза, каждый эпизод и глава могут быть названы кинематографичными в том или ином смысле. Используя такого рода приемы, Б. Акунин добивается не только ментального, но и визуального и аудиального погружения читателя в действие романа. Так автор воплощает свое творческое начало и удовлетворяет потребности современного читателя, нуждающегося в визуализации и динамизации литературного текста, что, на наш взгляд, является одной из составляющих оглушительного успеха этого писателя на современной литературной сцене.
Список литературы Роман-кино как вершина синтеза литературы и кинематографа (на материале романа Б. Акунина "Смерть на брудершафт")
- Акунин Б. Смерть на брудершафт: роман-кино. М.: АСТ, 2013. 1243 с.
- Волошина Т. Г. Языковые средства реализации кинематографичности в художественных текстах //Филология и проблемы преподавания иностранных языков: сб. науч. тр. М.: Моск. пед. гос. ун-т., 2010. Вып. 7. С. 29-34 URL: http://dspace.bsu.edu.ru/bitstream/123456789/7647/1/Voloshina_ Yazikovye.pdf. (Дата обращения: 2.02.2015.)
- Мартьянова И. А. Кинематограф русского текста. СПб.: Свое издательство, 2011. 240 с.