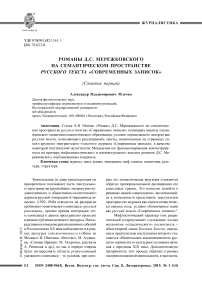Романы Д.С. Мережковского на семантическом пространстве русского текста "Современных записок" (статья первая)
Бесплатный доступ
Статья А.В. Млечко «Романы Д.С. Мережковского на семантическом пространстве русского текста «Современных записок» посвящена анализу специфического семантико-семиотического образования, условно определяемого автором как русский текст, позволяющего рассматривать тексты, напечатанные на страницах самого крупного эмигрантского «толстого» журнала «Современные записки», в качестве некоторой текстуальной целостности. Механизмы его функционирования демонстрируются на примере мифосимволического и контекстуального анализа романов Д.С. Мережковского, опубликованных в журнале.
Журнал, текст, роман, эмиграция, миф, символ, семантика, культура, структура, сulture
Короткий адрес: https://sciup.org/14975290
IDR: 14975290 | УДК: 070(091):821.161.1
Текст научной статьи Романы Д.С. Мережковского на семантическом пространстве русского текста "Современных записок" (статья первая)
Значительная (и даже претендующая на приоритетное положение) часть текстуального пространства крупнейшего литературно-художественного и общественно-политического журнала русской эмиграции «Современные записки» (1920–1940) отводится на раскрытие проблемно-тематического комплекса «русской революции», причем прямая интеграция этого комплекса в данное пространство проходит в рамках публицистического дискурса. Непосредственное описание революционных событий в России начала ХХ века наблюдается и в рамках дискурса художественного («Няня из Москвы» И. Шмелева, «Бегство», М. Алданова, «Сивцев Вражек» М. Осоргина, рассказы А. Ремизова и др.), но нас в первую очередь будет интересовать область репрезентаций указанного комплекса – те условия, при кото- рых его символическая редукция становится обратно пропорциональной расширению его смысловых границ. Это позволит подойти к решению нашей «сверхзадачи», заключающейся в возможности представить текстуальное пространство журнала как единое семантически связное поле, условно обозначенное нами как русский текст «Современных записок»1.
Мифопоэтический характер этих репрезентаций подразумевает следование логике механизма «классического» космогенеза – облигаторной смене Космоса Хаосом, ожидание и предчувствие наступления которого становится обязательным аккомпанементом русского «кризисного» культурного сознания начиная с середины XIX века. Дополнительную прозрачность этот процесс обретает в рамках постреволюционной ментальности, в частности, эмигрантской, получая неизбежное отражение в «прецедентных» текстах русского зарубежья. Важно понять, что мы не ставим цель однозначно и окончательно определить отношение «Современных записок» к русской революции – в условиях принципиальной политекстуальности журнального пространства это сделать невозможно. Но возможно – с учетом общей антибольшевистской политики издания – найти то общее, что объединяет большую часть журнальных текстов, что позволяет отвести каждому из них определенное место в кажущейся бессмысленной и хаотичной картине. Беспорядочность эта остается явной лишь до тех пор, пока не найдены принципы структурации семантически маркированных элементов невыявленного целого, не обнаружены закономерности построения и смыслового наполнения общей модели, обеспечивающей этому целому семиотический гомеостазис.
Если в художественных текстах «Современных записок», тематически ориентированных на описание дореволюционной жизни, воспроизводилась модель русского Космоса , то в текстах, рисующих (пост)революционную российскую действительность, конституируется модель, обеспечивающая качественную репрезентативность мифологемы Хаоса . При этом важно уяснить, что амплитуда данных репрезентаций настолько широка, что, как увидим, позволяет включать в свое семантическое поле и те тексты, тематический рисунок которых не напрямую соотнесен с русскими революционными событиями. В особых условиях контекстуального прочтения журнальных текстов, в условиях их инкорпорации в семантическое поле русского текста «Современных записок», их следования логике «эмигрантского мифа» становится возможным отнесение к «революционному дискурсу» произведений, казалось бы, лишь имплицитно раскрывающих соответствующую тематику, но в то же время в полной мере отражающих особенности кризисного сознания.
«Революционная» тематика оказывается тем самым эже общей эсхатологической и апокалиптической интенциональности целого ряда «кризисных» текстов «Современных записок», в каждом из которых мифологема Хаоса получает свое сигнификативное комплектование. И если тема русской революции представляет собой лишь сегмент тематической палитры художественного дискурса журнала, то ее проблематика – и этот процесс становится еще более интенсивным благодаря контекстуальному приращению соответствующих значений – распространяется на максимально широкий спектр текстов. В результате мы получаем уникальную возможность (ре)конструкции картины и мифологизации русской революции в рамках эмигрантской культуры и ее интеграции в общий кряж мифопоэтических представлений о смене Космоса Хаосом.
Претендующий на уникальность репре-зентационный рисунок мифологемы Хаоса на смысловом поле русского текста «Современных записок» получает в рамках полижан-ровых произведений Д.С. Мережковского, занимающих значительную часть текстуального пространства журнала. Это обусловлено по меньшей мере двумя причинами. Во-первых, сама политическая и идеологическая позиция Д.С. Мережковского и З.Н. Гиппиус достаточно ярко инкрустировала «эмигрантский миф» культуры русского зарубежья – их крестовый поход против большевиков отличался завидной последовательностью и непримиримостью. Во-вторых, сама религиозно-мифологическая ориентация эмигрантских текстов Мережковского более чем эффективно способствует созданию гомогенной мифологической структуры текстуального пространства «Современных записок».
В эмиграции (в Варшаве) Мережковские оказались в начале 1920 года, после страшных двухлетних испытаний в «красном» Петербурге. Поэтому неизбывная ненависть обоих к большевикам вполне объяснима – Мережковские воспринимали большевизм не столько как политическую силу, сколько как некую эманацию абсолютного и метафизического зла. Целиком и полностью приняв Февраль, Мережковский так же целиком и полностью отвергнул Октябрь, провозгласив постреволюционную Россию «царством Антихриста» и расценивая отныне все происходящее в ней и мире не иначе как в мессианском и апокалиптическом свете. Так, уже в «Записной книжке. 1919–1920» он писал: «Настоящий конец не совершится ли так же, как это подобие конца, – изнутри – сначала изнутри, а уже потом извне? И сейчас не повторяется ли на наших глазах исполинское видение Патмоса? Не издыхаем ли мы от страха бедствий, грядущих на вселенную? Не свивается ли наше внутреннее небо, как свиток? Не становится ли наше солнце, как кровь, и наша вода, как полынь? Не рушится ли наш Вавилон великий? И Багряный Зверь не выходит ли из Бездны – из бездны наших сердец» [14, с. 80].
Как апокалиптическое пространство «Совдепия» предстает и в дневниках З.И. Гиппиус, например, в «Черных тетрадях (1917–1919)» она представляет большевистскую Россию как пространство смерти, царство тотального зла: «На райскую нашу Совдепию апокалиптический ангел вылил еще одну чашу: у нас вспыхнула неистовая холера. В Петербурге уже было до 1000 заболеваний в день. Можно себе представить ярость большевиков! Ясно, что холера контрреволюционна, а расстрелять ее нельзя. Приходится выдумывать другие способы борьбы. Выдумали, нашли: впрягать «буржуазию» в телеги для возки трупов и заставлять ее рыть холерные могилы. <…> Наше «сегодня» – это не только ни в какой мере не революция. Это самое обыкновенное КЛАДБИЩЕ. Лишь не благообразное, а такое, где мертвецы полузакрыты и гниют на виду, хотя и в тишайшем безмолвии. Уж не банка с пауками – могила, могила!» [7, с. 135, 153] 2.
Поэтому деятельность Мережковских в эмиграции – сначала в Варшаве, а потом в Париже, где супруги прожили до самой смерти, – в основном была сосредоточена на осмыслении эсхатологической онтологии мировой истории и дискредитации большевизма в глазах Запада. Впрочем, последнее удалось Мережковскому лишь отчасти, что дало писателю новую пищу для панапокалиптических настроений и рассуждений о близком – как и в случае с М. Алдановым – конце Истории. Бежавший из России вместе с Мережковским секретарь З.Н. Гиппиус Владимир Злобин так характеризует эту сторону эмигрантской жизни мыслителя: «И он подводит итог своей антибольшевистской деятельности. Он рассказывает, как в 20-м году, вырвавшись живым из могилы, он с наивностью думал, что «мировая совесть» молчит только оттого, что правда о России не известна и что стоит эту правду открыть, как мир, содрогнувшись и возмутившись, кинется тушить пожар – не русский, а свой, спасать – не Россию, а себя от общей гибели. <…> В начале 30-х годов всеми признанные большевики становятся «баловнями Европы», Мережковский продолжает с ними борьбу, но его голос сквозь стены «пробковой камеры» до мира не долетает. <…> Что он здесь, в Европе, кончит свои дни в «пробковой камере», от которой его не избавит даже смерть, – этого себе представить Мережковский, при всей живости своего воображения, не мог. Но катастрофу, Вторую мировую войну, он предчувствовал, когда еще как будто ничто ее не предвещало. Ему даже казалось, что эта катастрофа будет гибелью Человечества – новой «Атлантидой». В 23 году, отвечая на анкету швейцарского ежемесячника «La Revue de Genиve» о «будущем Европы», он в его январской книжке печатает краткую, но очень яркую статью. Если опускать обычные в таких случаях оговорки, надежды и комплименты, то будущее Европы выражается для Мережковского одним словом: антропофагия» [9, с. 467–468].
В ноябре 1920 года Мережковские приезжают в Париж, где у них была собственная квартира. Здесь они возобновляют общение с К.Д. Бальмонтом, И.А. Буниным, Н.А. Бердяевым, А.И. Куприным, Н.М. Минским, С.Л. Франком, Л. Шестовым, И.С. Шмелевым, В.В. Карташевым, В. Ивановым – писателями, мыслителями и общественными деятелями, активно печатавшимися в «Современных записках». В 1921 году выходит первая программная книга «Царство Антихриста», куда вошли работы четырех авторов (Мережковский, Гиппиус, Философов, Злобин), где рассказывается об ужасах жизни в большевистском Петрограде. Через пять лет супругами был основан общественно-литературный салон «Зеленая лампа» (1927–1939) 3, выросший из «воскресений» Мережковских (еженедельных собраний в доме четы, проводившихся для обсуждения как текущей литературной жизни эмиграции, так и некоторых общефилософских и культурных проблем) и сыгравший значительную роль в жизни русского рассеяния.
Общая проблематика и пафос читаемых докладов были весьма характерными для мироощущения русских эмигрантов первой волны. В центре их внимания находилась рос- сийская трагедия и послереволюционная жизнь русских, особенно за рубежом: «Парижская «Зеленая лампа» мыслилась лабораторией, в которой вырабатывается программа жизни и исканий русской эмиграции – прежде всего в областях литературной и религиознофилософской» [18, с. 169] 4. Другими словами, как и на текстуальном пространстве «Современных записок», в рамках докладов на собраниях «Зеленой лампы» также шла стратификация символических комплексов, обеспечивающая единство «русского текста» культуры русского зарубежья и гомеостатичность структурации «эмигрантского мифа». При этом не нарушается и еще одно выдвинутое нами условие онтологизации социальной мифологии – ее «материальное» закрепление на текстовых носителях, в данном случае в текстах СМИ. Так, стенограммы заседаний «Зеленой лампы» публиковались в эмигрантском журнале «Новый корабль» (1927–1928).
Кроме того, нельзя забывать и о составе участников заседаний – абсолютное большинство их составляло авторский кряж «Современных записок»: И.А. Бунин, Б.К. Зайцев, М.А. Алданов, А.М. Ремизов, В.Ф. Ходасевич, Н.А. Тэффи, Н.А. Бердяев, К.В. Мочуль-ский, Г.П. Федотов, Л. Шестов были среди докладчиков и участников прений. Особо хотелось бы отметить достаточно активное участие в заседаниях и редакторов «Современных записок» – М.В. Вишняка, В.В. Руднева и И.И. Бунакова-Фондаминского. Да и проблемы, обсуждаемые на собраниях, были настолько же репрезентативны для «эмигрантского мифа», насколько они были таковыми и на текстуальном пространстве «Современных записок». Как и «Современные записки», «Зеленая лампа» позиционировалась как подчеркнуто аполитичное культурное начинание – характер докладов и прений по ним был разнообразным, литературные темы смешивались с политическими, религиозными и философскими, но, как и в случае с «Современными записками», его интерполяция на семантическое поле русского текста эмигрантской культуры дает возможность говорить о целостности структуры картины мира русских беженцев. Среди докладов следует отметить такие, как «Русская литература в изгнании» (З. Гиппиус), «Конец литературы» (Г. Адамо- вич), «Умирает ли христианство?» (В. Злобин), «Защита свободы» (Г. Федотов), а также ряд бесед на определенные темы: «Найти себя (К трагедии эмигрантского сознания)», «Толстой и большевизм», «Что с нами будет?» (Атлантида – Европа)», «У кого мы в рабстве? (о духовном состоянии эмиграции)» и др.5
И все же политическая и литературная позиция Мережковских в эмиграции была отмечена некоторым изоляционизмом в первую очередь из-за комплиментарного отношения Д.С. Мережковского в адрес Пилсудского, Муссолини и Гитлера [более подробно об этом см.: 24, с. 216–218; 22, с. 145–166; 23, с. 304–326]. Тем не менее супруги очень активно сотрудничали с крупными эмигрантскими изданиями. «Современные записки» занимали среди них приоритетное положение, хотя отношение с редакцией журнала и Гиппиус, и Мережковского трудно назвать безоблачными. Взаимное непонимание углублялось, и эту сложившуюся непростую ситуацию особо отмечал Глеб Струве: «И Мережковский и Гиппиус довольно скоро стали сотрудниками «Современных записок» (Гиппиус в 1922 году, начиная с 10-й книги, Мережковский в следующем, с 15-й книги), но настоящей близости к журналу у них не возникло. Правда, со многими эсерами их связывали давние дружеские отношения (особенно с И.И. Бу-наковым-Фондаминским, который и ввел их в парижский журнал: они сблизились с ним еще в дореволюционное свое пребывание в Париже, тогда же, когда и с Савинковым); но политически и идейно они были теперь далеки и от прежних правоверных эсеров, и от того нового для эсеров, что представляли в «Современных записках» сам Бунаков и В.В Руднев, а также такие сотрудники, как Бердяев, Степун и Федотов, и что когда-то было ближе самим Мережковским с их религиозными интересами и устремлениями» [19, с. 88] 6.
Отдавая дань писательскому и исследовательскому таланту Мережковского 7, М. Вишняк в своих воспоминаниях тем не менее не раз подчеркивал не только редакторское несогласие с идеями мыслителя (при этом совершенно справедливо ссылаясь на исключительную толерантность редакционной позиции), но и то обстоятельство, что столь долгое сотрудничество с Мережковским объясняется нежеланием редакторов потерять более ценного, с точ- ки зрения Вишняка, автора – Гиппиус: «И в «Современных записках» Мережковские стали печататься не сразу. Им помогло настойчивое представительство их давнего и верного друга Фондаминского и, главное, обязательство, взятое на себя редакцией заявлением, что беспартийные «Современные записки» открыты для всего, что «представляет объективную ценность с точки зрения русской культуры». Мережковского с его 24 томами сочинений (в сытинском издании 1914 г.) выключить из русской культуры было невозможно. То же относилось и к Гиппиус – поэту, драматургу, романисту, литературному критику. Приходилось, поэтому, закрывать глаза на публицистические провалы и политические грехи супружеской пары. <…> По мнению некоторых критиков-почитателей Мережковского, написанное им в эмиграции является вершиной его творчества. Редакция «Современных записок» держалась другого, чтобы не сказать обратного, мнения. И если журнал печатал произведения Мережковского сравнительно часто и, во всяком случае, чаще, чем того хотелось бы редакции, это и происходило не только из пиетета к былому Мережковскому, но и из практических соображений: редакция опасалась потерять нужного и ценного сотрудника журнала – Мережковскую-Гиппиус. Это был не единственный случай, когда, дорожа сотрудничеством одного из супругов, журнал считал себя вынужденным печатать и другого – или другую. То был один из многих компромиссов, на который мы шли с открытыми глазами, отчетливо это сознавая. Вместе с тем редакция обязывала своего посредника по соглашению с Мережковскими Фондаминского напрячь все дипломатическое искусство к тому, чтобы, не слишком задевая самолюбие Мережковского, свести к минимуму публикацию его бесконечных, все тех же религиознофилософских антитез и мнимо исторических параллелей» [5, с. 96–97] 8.
Трудно сказать, уместно ли назвать «минимальным» объем напечатанных на страницах журнала произведений писателя. С одной стороны, именно в «Современных записках» увидела свет его «программная» романная дилогия о Древнем Востоке, с другой же, действительно, многие «знаковые» произведения Мережковского появились в журнале лишь в виде небольших отрывков, заставляя читателя обращаться к полному их варианту уже вне рамок текстуального пространства «Современных записок». Итак, в «Современных записках» были напечатаны два романа писателя: дилогия «Рождение богов (Тутанкамон на Крите)» (1924, № 21–22) и «Мессия» (1927–1928, № 27– 32); философско-публицистическая эссеистика, служащая своеобразным комментарием к романам: «Тайная мудрость Востока: Вавилон» (1923, № 15–17) (отрывки из большой книги «Тайна трех. Египет-Вавилон), «Атлантида» (1930, № 41) и «Отчего погибла Атлантида?» (1930, № 43) (части более крупной работы «Ат-лантида-Европа. Тайна Запада»), «Назаретские будни» (1932, № 48) и «Царство Божие» (1933, № 52) (главы центральной эмигрантской книги писателя «Иисус Неизвестный»); исследование о Наполеоне «Наполеон-человек» (1928, № 34–35) (четыре главы из первого тома философской биографии «Наполеон»); две статьи – «1925–1825» (1925, № 26) и «Коммунизм Божественный» (1935, № 58), а также стихотворение «Вечерняя песнь» (1924, № 18).
Несоответствие редакторским взглядам, впрочем, ни в коей мере не исключает органичного вхождения перечисленных произведений в русский текст журнала. Даже наоборот, как и в случае, скажем, с «Даром» В. Набокова или «Историей любовной» И. Шмелева, произведения, не совпадающие с редакторскими литературными вкусами и редакторским видением политики издания, выступают самыми активными конституентами русского текста журнала, теми текстами, на пространстве которых мы можем видеть мощную ротацию семантики символических репрезентантов, обеспечивающих структурную целостность и единство «эмигрантского мифа». И произведения Мережковского не являются здесь исключением, залогом чему выступает, как мы уже говорили, их явная религиозно-мифологическая интенциональность.
Нельзя забывать и еще об одном обстоятельстве, способствующем органичному вхождению этих произведений Мережковского в русский текст «Современных записок», – отчетливая их полижанровость. Мало того, что их все можно рассматривать как некий единый текст (так, считается, что «Тайна трех», «Атлантида-Европа. Тайна Запада» и
«Иисус Неизвестный» представляют собой три части единой трилогии, а вся она может служить, как уже было сказано, философски-историческим комментарием к романной дилогии о ближнем Востоке), но на первый план выходит практически полная элиминация жанровых границ с сохранением, впрочем, границ дискурсных: сегрегация художественных элементов от философско-публицистических все же возможна. На публицистичность художественных текстов Мережковского и художественность философско-публицистических обратили внимание достаточно давно: «Если до революции широкая известность Мережковского и в России и за границей покоилась главным образом на его исторических романах, из которых даже лучшие, по слову Д.П. Святополк-Мирского, не были романами, то после революции он вскоре перестал облекать свои культурно-исторические и религиозно-философские размышления и домыслы в форму художественного вымысла и стал трактовать интересовавшие его темы в произведениях, которые можно отнести к особому разряду художественно-философской прозы с резко выраженной индивидуальной манерой письма (сюда относятся написанные в эмиграции «Тайна трех», «Наполеон», «Атлан-тида-Европа», «Иисус неизвестный», Книга о Данте, Франциске Ассизском, Жанне д-Арк, бл. Августине и св. Павле). <…> Все написанное и напечатанное им после 1926 года относится к тому роду писаний, на который трудно наклеить какой-нибудь ярлык, хотя можно назвать их художественно-философской прозой. Правильнее же сказать, что это единственный в своем роде Мережковский» [19, с. 90, 253] 9.
Поэтому не в последнюю очередь эта трудность жанровой атрибуции и усложненность дискурсной сепарации текстов писателя (так, «Иисус Неизвестный» часто определяется критиками и литературоведами как «роман») объединяется не только удивительной устойчивостью, недискретностью их проблемно-тематических комплексов, но и ярко выраженной публицистичностью, эссеистич-ностью их формосодержательной компоненты. Отечественный исследователь так характеризует появление этих черт еще в доэмигрантский период творчества Мережковского:
«Между тем наряду со схематизмом и алле-горизацией, обусловленной изобилием прямых комментариев и прозрачных иносказательных деталей, «публицистической» однозначностью финалов (к которой писатель все более тяготел) и другими сходными чертами поэтики, в его романах действовала и тенденция к вуалированию и усложнению смысла» [4, с. 813– 814] 10. Несмотря на то, что эта последняя тенденция (наряду с остальными указанными) очень сильно прогрессировала именно в эмигрантских произведениях писателя (усложненная символика, игра смыслами, нарочитая парадоксальность параллелей и т. д.), включение их в русский текст «Современных записок» и даже в «эмигрантский миф» культуры русского зарубежья в целом, другими словами, погружение символов и символических комплексов в определенный контекст позволит активизировать процесс смысловой редрессации и преодолеть неизбежно возникающую при чтении «толстого» журнала семантическую энтропию.
В центре нашего анализа, разумеется, будут стоять два романа Мережковского, образующую (мета)историческую дилогию о древнем Крите и Египте, но, тем не менее, являющиеся неотъемлемой частью единого грандиозного замысла писателя (в авторском вступлении к своему собранию сочинений Мережковский так отзывался о своих произведениях: «Это – звенья одной цепи, части одного целого. Не ряд книг, а одна, издаваемая только для удобства в нескольких частях. Одна – об одном»); историческая действительность (впрочем, весьма условная) в книгах писателя выступает именно как материал , на основе которого автор решает проблемы, лишенные жесткой пространственно-временной локализации. Действительно, общеизвестно, что Мережковский обращался к истории прежде всего для иллюстрации современного (и даже будущего) состояния человеческой цивилизации. Исторические (и метаисторические – легендарно-мифологические) события служили для него звеньями одной цепи, сценами одной великой пьесы, заключительный акт которой – освященный религией «Третьего завета» конец Истории и Апокалипсис – он пророчески предрекал в своих произведениях.
Как и Алданов, Мережковский ощущал «ужас Истории», но, в отличие от автора «На- чала конца», видел в Истории не столько бессмысленный и трагический хаос, сколько арену извечной борьбы двух противоположных начал – добра и зла, света и тьмы, праведности и греха, Христа и Антихриста, причем в постановке и решении вопроса о ходе и окончании этой борьбы писатель был довольно оригинален и во многом расходился с ортодоксальным христианством. Еще до революции Н.А. Бердяев публикует в «Русской мысли» (1916. № 7) большую статью «Новое христианство (Д.С. Мережковский)», где говорит, что «одному Мережковскому удалось создать целую религиозную конструкцию, целую систему неохристианства. Он претворил в своей конструкции и темы Толстого и Достоевского, и религию «плоти» Розанова, и хи-лиастическую «правду о земле» Тернавце-ва, и все споры религиозно-философских собраний об отношении христианства к культуре и к земле, и все предчувствия нового откровения» [2, с. 333].
Историю Мережковский ощущает и осмысливает как гигантскую Мистерию, мистическое значение которой прозревается в соотнесении вселенских катастроф и исторических катаклизмов с древними пророчествами о них, выраженными в форме мифологем и мифологических символов. В этом смысле исторические романы писателя можно назвать, скорее, «антиисторическими», так как «земная история» была для Мережковского лишь частью Истории-как-Мистерии , и скорый конец ее был предрешен, лучшими доказательствами чего сегодня могли служить, по Мережковскому, мировые войны и русская революция (Октябрьский переворот) как победа абсолютного и метафизического зла, торжество Антихриста. «Именно в силу таких воззрений, – пишет Ю. Терапиано, – Мережковский не мог быть с теми, «кто рассчитывал на историю», он хотел – не развить и приукрасить теперешнюю жизнь на земле, а наоборот, – полного крушения всех надежд «устроиться в истории», то есть в «плоскости мира сего», и ждал такой революции внутри каждого, которая была бы способна низвести на землю пламя конца истории, то есть эво-люционности» [20, с.33].
О такой духовной революции, позволившей бы вырваться из порочного круга Исто- рии, по большому счету, и шла речь почти во всех работах Мережковского, на каком бы историческом материале они не строились. Хаос Истории укрощался писателем в формальных рамках религиозно-мифологической парадигмы, позволяющей толковать события (прошлые, современные и даже будущие) в соответствии со сценарием той Мистерии, которая совершается на наших глазах 11. «Таков всегдашний путь Мережковского: прорасти корнями из настоящего через настоящее – в былое. Все его творчество – медленное прорастание в глубинные и плодоносные пласты Истории: Россия Александра, Павла, Петра; Италия Леонардо; Эпоха Апостата; теперь – Эгейская культура, и далее – Египет, Вавилон», – пишет в статье «Мережковский и история», опубликованной в парижском журнале «Звено» (1926, № 156), философ и критик Н. Бахтин [1, с. 362]. Разумеется, что самой серьезной катастрофой, оказавшей на Мережковского колоссальное влияние, была русская революция, от которой он бежал в изгнании и встретил смерть на чужбине. Поэтому ничего странного в утверждении, что все созданное писателем в эмиграции теснейшим образом связано именно с русской проблематикой, думается, нет. Под знаком «русского вопроса» проходила вся жизнь автора «Иисуса Неизвестного» в период изгнанничества. Как справедливо отмечает специалист в области философии русского зарубежья О. Волкогонова, «Мережковские постоянно возвращались к русской теме в своем творчестве. Подчас это возвращение не было прямым. Например, исследования Древнего Ближнего Востока Мережковским внешне не имели ничего общего с русской проблематикой. Но на самом деле, эти исследования стали еще одним кирпичиком в концептуальной «кладке» мыслителя» [6, с. 199].
Действительно, как оба романа, так и примыкающие к ним эссеистика и публицистика, напечатанные в «Современных записках», имеют самое непосредственное отношение к России, становясь к тому же смысловой морфемой русского текста издания. В первую очередь это связано с тем, что Мережковский почти во всех своих эмигрантских текстах, как говорилось выше, использовал на редкость цельную и постоянную систему мифологем и мифологических символов, что позволило ему эффективно достигать поставленных философско-публицистических целей. Абсолютное большинство групп символов Мережковского относится к ведущей мифологеме Хаоса, или второй части космогонической триады Космос-Хаос-Космос, репрезентирующей, в свою очередь, структурацию «эмигрантского мифа».
Ни первая, ни вторая часть дилогии о Ближнем Востоке, действительно, тематически к российским событиям не имеет прямого отношения. И тем не менее – даже без погружения в русский текст «Современных записок» – уже в первых отзывах на первый из романов «Рождение богов (Тутанкамон на Крите)» критики отмечали сугубо российскую интенциональность его проблематики. Так, в появившейся на страницах газеты «Возрождение» рецензии В. Кадашев отмечал неслучайный интерес Мережковского именно к переходным эпохам , эпохам кризиса, когда так обостряется катастрофическое мироощущение и столь остро обнажается кризис религиозного сознания: «В «Тутанкамоне на Крите» завязывается трагическая коллизия, являющаяся основною темою творчества Д.С. Мережковского – борьба Христа и Антихриста. <…> Даже формально «Рождение богов» напоминает «Трилогию»… – такая же переходность эпохи, когда обострена религиозная жажда и происходит смешение истины и лжи, тоже томительное ощущение катастрофы. <…> В египтянах свиты Тутанка-мона, полувосхищенных критикой культуры, полунегодующих на ее нечестие, легко узнать старых знакомых <…>. Тема «Тутанкамона» именно «рождение богов» – выделение из космической религии-истины о Боге-Жертве, Боге-Искупителе, пророческой мечты о Христе. <…> Раскол, прорыв благополучно утвержденного религиозного сознания критян – основная мысль Мережковского» (курсив наш. – А.В.) (Возрождение. 1925.31 августа).
Этот российский код, естественно, активизируется и получает инспиративный статус при включении романов в русский текст «Современных записок», при их инкорпорации в текстуальное пространство журнала в целом. Вместе с тем надо учитывать и тот немаловажный факт, что нарративные конструкции Мережковского имеют явную, как мы уже говорили, (нео)мифологическую интенциональность. Писатель не раз подчеркивал, что он сознательно выбирает форму мифа для того, чтобы (в том числе) получить возможность раскрыть подлинный смысл происходящего сегодня. Так, в «Тайне Запада» он противопоставляет исторический и мифологический нарративы, чтобы сделать выбор в пользу последнего, единственно способного, по мнению писателя, проникнуть в суть «исторического процесса»: «Миф – полет, диалектика – лестница; рушится лестница, крылья мифа возносят на высоты нерушимые; дальше всех человеческих глаз, край земли и неба, начало и конец всего – «Атлантиду» – видит орлиное око мифа. <…> Что такое миф? Небылица, ложь, сказка для взрослых детей? Нет, одежда мистерии. Голыми ходят у Платона только низшие истины; высшие облекаются в миф, так чтобы истина сквозила сквозь «басню», как тело сквозь ткань» (Современные записки. 1930. №41. С.173–174). И здесь же, говоря о полидискурсивности платоновских текстов, Мережковский, бесспорно, пишет о себе: «Миф – мистерия – история в Платоновой мудрости сплетены, сотканы, как тончайшие, в органических тканях, волокна, как элементы в химических телах. Эти три порядка слиты в нем так, как дух, душа и тело в человеке. Как же их рассечь, не убивая» (Современные записки. 1930. № 41. С.174–175).
Совершенно очевидно, что собственные нарративные стратегии Мережковский строит именно на использовании полижанровых и по-листилистических конструкций, поэтому в качестве конвенциональных очагов выступают у него два формосодержательных конституен-та – миф и символ. Миф позволяет писателю достигать необходимого синкретизма, прежде всего, в области наложения семантики одной кризисной эпохи на другую, так как общеизвестным предстает факт крайней интенсификации мифологических структур именно в переходные эпохи. Символ же выступает основным трансдискурсивным элементом, создающим возможность беспрепятственной осцилляции смыслов из художественной в публицистическую и философскую сферы, не только обеспечивая тем самым семантическое единство «русского текста» «Современных записок», но и демонстрируя включение механизма архети- пизации символических форм в эпохи кризиса. Причем, как показывает М. Элиаде, главная цепь этого механизма – упразднение «мирского времени», коагуляция истории, именно благодаря ретрансляции символических констант «осуществляется неявная отмена мирского времени, длительности, «истории», и тот, кто воспроизводит образцовое действие, таким образом переносится в мифологическое время первого явления этого действия – образца. <…> Так же как мирское пространство упраздняется символикой Центра, переносящей любой храм, дворец или здание в одну и ту же центральную точку мифического пространства 12, так и любое наделенное смыслом действие, совершаемое архаическим человеком, любое реальное действие – любое повторение какого-либо архетипического жеста, – приостанавливает длительность, упраздняет мирское время и включается во время мифическое» [21, с. 56–57].
Эту роль «семантических маркеров», конструирующих смысловую конгруэнтность русского текста журнала, в «Рождении богов» в первую очередь выполняют два базовых символа, в ином контекстуальном режиме выступающих в качестве мифологем, – это символы лабиринта и креста. Эти образующие дихотомию 13 образы лежат в основе не только смысловой, но и композиционной структуры романа. Символ лабиринта (в своей «материальной» ипостаси он представлен образом критского лабиринта) призван актуализировать смысл утраченных ориентиров и их поиска, что, собственно, полностью соответствует классическому толкованию символа: «Лабиринт символизирует замешательство, заблуждение, путаницу, неразбериху, запутанную ситуацию, из которой невозможно найти выход; душевные муки, замкнутое кольцо, неразрешимую проблему, софизм, вечное круговращение, возврат; потаенность, заговор, хитрость, ворожбу, вульву; грех, боль; подземное царство мертвых, Ад» [11, с. 111] 14.
Блуждающие в лабиринте политеизма герои романа не могут найти успокоения, не могут избавиться от смутной онтологической тревоги, не в силах найти ответы на мучительные вопросы собственного бытия и бытия культуры в целом. И приехавшего на Крит Тутанхамона, и жрицу Дио окружают страшные, звероподобные божества, символизирующие у Мережковского тупиковый вектор развития цивилизации. И уже здесь в центр нарративной структуры дилогии писателем помещаются две символические фигуры – Бога и Царя. Так, блуждая в лабиринте критского дворца, Тутанхамон заходит в царские палаты и неожиданно видит сидящее на престоле чудовище: «На внутренней стене две одинаковые росписи – два исполинских, на лилейном лугу, грифона, с птичьими клювами, львиными лапами, змеиными хвостами и павлиньими гребнями, как бы стерегли царский престол, раскрашенный нежно и пышно, как волшебный цветок, с высокую, в виде дубового листа, волнисто изогнутою спинкою. Тута взглянул на престол и обмер, глазам своим не поверил; таращил их, вглядывался, но продолжал видеть то, что видел: на престоле сидело чудовище – человек с головой быка. Он подумал было, что оно не живое. Но вдруг зашевелилось, подняло руку и тихонько поманило его пальцем, закивало головой. Бычьим ревом заревет сейчас, казалось ему, и закричит он от ужаса, нарушая весь посольский чин» (Современные записки. 1924. № 21. С. 41).
Мы видим здесь, что символика лабиринта дополняется Мережковским символикой маски, семантический потенциал которой также впитан в парадигму противопоставления истинного/ложного 15 и на текстуальном пространстве «Современных записок» активно артикулируется прежде всего в романах В. Набокова «Приглашение на казнь», «Отчаяние» и «Защита Лужина»16. Любопытно, что инфернальная семантика образа маски распространяется у Мережковского и на его носителя – под маской быка Тута обнаруживает не менее чудовищное лицо: «Тута, впрочем, не обрадовался и человеческому лицу чудовища, такому же дряхлому, бабьему, как у сидевших по стенам скопцов, но еще более мертвому: те как будто встали из гробов своих только что, а этот уже давно. <…> Вслушиваясь в дребезжащий, бабий голос его, вглядываясь в одутловатое бабье лицо его, Тута недоумевал, кто это, мужчина или женщина. И терялся уже окончательно, вспоминая, что двенадцать женоподобных отроков назывались «невестами царя», а двенадцать мужеподобных дев – «женихами царицы»: как будто нарочно такая путаница, чтобы ничего нельзя было понять – тайна Лабиринта безысходного» (Современные записки. 1924. № 21 С. 42–43).
Список литературы Романы Д.С. Мережковского на семантическом пространстве русского текста "Современных записок" (статья первая)
- Бахтин, Н.М. Мережковский и история/Н.М. Бахтин//Д.С. Мережковский: pro et contra. -СПб.: РХГИ, 2001. -С. 362-365.
- Бердяев, Н.А. Новое христианство (Д.С. Мережковский)/Н.А. Бердяев//Д.С. Мережковский: pro et contra. -СПб.: РХГИ, 2001. -С. 331-353.
- Бидерман, Г. Энциклопедия символов/Г. Бидерман. -М.: Республика, 1996. -335 с.
- Бойчук, А.Г. Дмитрий Мережковский/А.Г. Бойчук//Русская литература рубежа веков (1890-е -начало 1920-х годов): В 2 кн. Кн.1. -М.: ИМЛИ РАН, Наследие. -С. 779-851.
- Вишняк, М.В. «Современные записки»: Воспоминания редактора/М.В. Вишняк. -СПб.: Изд-во «Logos»; Дюссельдорф: «Голубой всадник», 1993. -240 с.
- Волкогонова, О.Д. Образ России в философии Русского Зарубежья/О.Д. Волкогонова. -М.: «Российская политическая энциклопедия», 1998. -325 с.
- Гиппиус, З. Дневники: В 2 кн. Кн. 2./З. Гиппиус. -М.: НПК «Интелвак», 1999. -720 с.
- Гиппиус, З. Воспоминания/З. Гиппиус. -М.: Захаров, 2001. -462 с.
- Злобин, В. Д.С. Мережковский и его борьба с большевизмом/Д. Злобин//Д.С. Мережковский: pro et contra. -СПб.: РХГИ, 2001. -С. 460-469.
- Ильин, И.А. Одинокий художник/И.А. Ильин. -М.: Искусство, 1993. -348с.
- Копалинский, В. Словарь символов/В. Копалинский. -Калининград: Янтарный сказ, 2002. -267 с.
- Лавров, А.В. История как мистерия. Египетская дилогия Д.С. Мережковского/А.В. Лавров//Мережковский Д.С. Мессия. -М.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2000. -С. 5-28.
- Лотман, Ю.М., Минц, З.Г., Мелетинский, Е.М. Литература и мифы/Ю.М. Лотман, З.Г. Минц, Е.М. Мелетинский//Мифы народов мира. Энциклопедия: В 2 т. Т.2. -М.: Советская энциклопедия, 1988. -С. 58-65.
- Мережковский, Д.С. Царство Антихриста: Статьи периода эмиграции/Д.С. Мережковский. -СПб.: РХГИ, 2001. -656 с.
- Млечко, А.В. Мифологема Возвращение и ее символические корреляты в семантическом пространстве русского текста «Современных записок»/А.В. Млечко//Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 2. Языкознание. Научно-теоретический журнал. -Вып. 3(19). -Волгоград, 2013.-С.48-53.
- Млечко, А.В. «Приглашение на казнь» В.В. Набокова и русский текст «Современных записок»: Другой, трикстер и символы «проклятых королей» (Статья вторая)/А.В. Млечко//Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 8. Литературоведение. Журналистика. Научно-теоретический журнал. -Вып. 1(13).-Волгоград, 2014.-С.38-52.
- Млечко, А.В. Трансдискурсивность символа: семантический потенциал символики в художественном дискурсе «Современных записок» (1920-1940)/А.В. Млечко//Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 2. Языкознание. Научно-теоретический журнал. -Вып. 4 (28). -Волгоград, 2015. -С. 152-166.
- Пахмусс, Г., Королева, Н.В. «Зеленая лампа»/Г. Пахмусс, Н.В. Королева//Литературная энциклопедия русского зарубежья: 1918-1940. Т. 2. Периодика и литературные центры. -М.: РОС-СПЭН, 2000. -С. 167-174.
- Струве, Г. Русская литература в изгнании/Г. Струве. -Paris, YMCA-PRESS, 1984. -426 с.
- Терапиано, Ю.К. Встречи: 1926-1971/Ю.К. Терапиано. -М.: Intrada, 2002. -384 с.
- Элиаде, М. Космос и история. Избранные работы/М. Элиаде. -М.: Прогресс, 1987. -312 с.
- Bedford, H.C. The Seeker: D.S. Merezhkovsky/Н.С. Bedford. -Lawrence (Kansas): Kansas University Press, 1975. -304 р.
- Pachmuss, T. D.S. Merezhkovsky in Exile. The Master of the Genre of Biografie Romance/Т. Pachmuss. -NewYork, 1990. -482 р.
- Rosenthal, B.G. Dmitri Sergeevich Merezhkovsky and the Silver Age: The Development of a Revolutionary Mentality/B. G. Rosenthal. -New York: The Hague, 1975. -360 р.