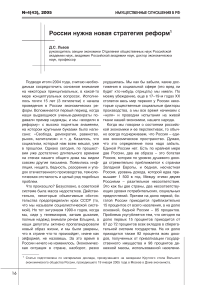России нужна новая стратегия реформ
Автор: Львов Д.С.
Журнал: Имущественные отношения в Российской Федерации @iovrf
Рубрика: Актуальная проблема
Статья в выпуске: 4 (43), 2005 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/170151285
IDR: 170151285
Текст статьи России нужна новая стратегия реформ
Подводя итоги 2004 года, считаю необходимым сосредоточить основное внимание на некоторых принципиальных, в какой-то мере концептуальных вопросах. Исполнилось почти 15 лет (3 пятилетки) с начала проведения в России экономических реформ. Вспоминается первый период, когда наши выдающиеся ученые-демократы подавали пример надежды, и мы «входили в реформу» с высоко поднятым знаменем, на котором крупными буквами было написано: «Свобода, демократия, равенство, рынок, капитализм» и т. д. Казалось, что социализм, который нам всем мешал, уже в прошлом. Однако сегодня, по прошествии уже достаточно длительного времени на стенах нашего общего дома мы видим совсем другие письмена. Появились инфляция, нищета, бедность, разорение и упадок отечественного производства, технологическая отсталость и целый ряд подобных проблем.
Что произошло? Безусловно, в советской системе была масса недостатков. Действительно, некоторые объективные обстоятельства предопределили крах СССР (то, что мы называли социалистической системой). Но тот энтузиазм 1990-х годов, когда мы, сидя у телевизоров, затаив дыхание, полные надежд внимали речам Ельцина, а наши депутаты активно пропагандировали новый образ жизни, и мы были уверены, что в стране что-то произойдет, иначе как эйфорией, не назовешь. За это время в России ничего не изменилось. Экономическая ситуация в стране, наоборот, резко ухудшилась. Мы как бы забыли, какие достижения в социальной сфере (это вряд ли будет кто-нибудь отрицать) мы имели. По моему убеждению, еще в 17–19-м годах ХХ столетия весь мир перенял у России некоторые существенные социальные факторы производства, а мы все время начинаем с «нуля» и проводим испытания на живой ткани нашей экономики, нашего народа.
Когда мы говорим о состоянии российской экономики и ее перспективах, то обычно всегда подчеркиваем, что Россия – единое экономическое пространство. Думаю, что это определение пока надо забыть. Единой России нет. Есть по крайней мере две России, два ее образа – это богатая Россия, которая по уровню душевого дохода стремительно приближается к странам Западной Европы, и бедная, несчастная Россия, уровень дохода, которой едва превышает 1 500 в год. Между этими двумя Россиями – разительное несоответствие. Это как бы две страны, два несоответствующих уровня потребительских, социальных предпочтений. Причем на долю первой, богатой России приходится приблизительно 15 процентов от всего населения, а на долю основной, бедной России – 85 процентов. Проблема усугубляется тем, что сегодня на долю первых 15 процентов приходится от 67 до 72 процентов всех вкладов в сберегательной системе государства. На их долю приходится также 92 процента всех доходов, полученных от приватизации государственного имущества и 98 процентов денежной массы, использованной населени- ем для покупки валюты. Большинство же населения – 85 процентов – до сих пор не знает, какую роль в ее жизни могут сыграть обменные курсы, и т. д., и т. п. Ясно, что такой разрыв – уникальное явление конца ХХ – начала XI века, которого еще не знала Новейшая история.
Однако было бы неверным рассуждать об этом только с точки зрения душевых показателей распределения дохода. Я думаю, не менее важно обратить внимание и на пространственную дифференциацию экономических условий жизни населения. Так, в 2003 году соотношение уровней душевого валового регионального продукта в обеспеченных нефтью регионах и таких регионах, как Ингушетия и другие национальные окраины, составляло 64 раза. По прогнозам Министерства экономического развития и торговли Росссийкой Федерации (Минэкономразвития России) на 2005 год, этот разрыв увеличится до 156 раз! По такому показателю, как объем инвестиций на душу населения соотношение между его минимальным значением для наиболее благополучных регионов и слаборазвитыми регионами составляет более 2 000 раз! И это в одной стране, в единой России! Разве в такой ситуации можно говорить о каком-то едином экономическом пространстве?
Сама идея интеграции не является новой. Был Союз, сейчас существует Европейский союз, в который вошли страны Восточной Европы, имеющие по европейским меркам относительно низкий экономический уровень развития. В последнее время в него приняли еще 10 стран. И несмотря на это, разрыв между максимумом и минимумом подушевого дохода в странах Европейского союза составляет 6–8 раз. А у нас по отдельным регионам России на порядок выше! По-видимому, сегодня народы стран Европейского союза имеют гораздо больше оснований считаться единой страной, чем 89 регионов Российской Федерации, называемые Единой Россией.
В настоящее время многие из дальневосточных регионов, по существу, являются отделенными от основной части экономического пространства России. Собственно на
Россию в объеме их регионального валового продукта приходится не более 20–25 процентов. Это конечно же – экономический парадокс.
При сохранении нынешнего механизма распределения совокупного чистого дохода страны решить поставленные проблемы принципиально невозможно. В отличие от многих других стран с рыночной экономикой в России сохраняется «дикий» закон первичного распределения. Именно благодаря этому у нас постоянно воспроизводится бедность. Иначе говоря, на единицу прироста доходов основной массы населения России, которая, как мы уже отмечали, имеет недопустимо низкий уровень доходов, наиболее состоятельная часть наших сограждан, численность которых не превышает 20 процентов, увеличивает свои доходы на 6–8 единиц. Об этом свидетельствуют результаты расчетов наших институтов по динамике распределения доли доходов по отдельным социальным группам (по так называемым квинтильным группам: по 20-ти процентам в каждой). Первые 20 процентов – это униженная Россия. За 10 прошедших лет доля этих 20 процентов в совокупном (распределяемом) доходе государства сократилась в 2 раза. А это значит, что нищие стали в 2 раза еще более нищими.
Доля доходов вторых 20 процентов тоже снизилась за десять лет в 1,5 раза. Следующие 20 процентов – тоже снижение, но уже меньше – примерно на треть. Четвертая квинтильная группа уже может претендовать на средний класс. И здесь за прошедшие десять лет идет снижение на 15 процентов. Таким образом, получаем, что 80 процентов населения России снизили свою долю в совокупном чистом доходе, т. е. стали относительно более бедным. Вот где суть проблемы социального расслоения российского общества.
Парадокс же состоит в том, что только 20 процентов наиболее богатого населения России в результате проведения экономических реформ стало более богатым!
По-видимому, не решив проблему принципиального изменения нынешнего механизма распределения совокупного дохода, мы не сумеем принять ни одного решения, продвигающего страну в направлении создания социально-устойчивой экономики. Главными составляющими решения этой проблемы выступает заработная плата и налоги. И если мы действительно заинтересованы в устранении хронической деформации в нашей экономике, то реформы необходимо начинать с реформы заработной платы. Последняя должна сопровождаться налоговой реформой. Что касается заработной платы, то здесь необходимо учитывать ряд обстоятельств. Прежде всего хочу напомнить, что еще в 1987 году ЮНЕСКО приняла декларацию о том, что доход ниже 3 долларов в час «выталкивает» человека из нормального воспроизводственного процесса, что, в свою очередь, плодит бедность и приводит к другим негативным социальным последствиям. Умные люди давно уже приняли это как необсуждаемое вненеэкономическое ограничение, в рамках которого не действуют или не должны действовать законы спроса и предложения.
Задача могла бы быть поставлена так: довести долю заработной платы в нашем ВВП до уровня западных стран. А это значит, что мы должны увеличить нашу среднюю заработную плату в 2–3 раза. И это следует сделать за счет изменения механизма распределения дохода, о чем мы уже говорили.
Если сравнить среднюю продолжительность жизни населения России и Европы или Америки, то разница составляет 10–12 лет. Причем из года в год разрыв увеличивается. Сегодня Россия переживает колоссальную трагедию – эпидемию смертности, которая коснулась всех слоев общества. Когда я ознакомился с результатами выборочных медицинских исследований, меня поразило то, что «новые русские», казалось бы, всего достигшие, тоже вымирают с огромной скоростью. В связи с этим естественный интерес вызывают данные исследований, проводившихся в различных странах. Приведу некоторые статистические данные из расчета на 100 тысяч человек. В 2003 году в США умерли 156 онкологических больных, в Англии – 196, в России – 207. Как видим, здесь существенной разницы не наблюдается. Но если мы возьмем такие заболевания, как сердечно-сосудистые, занимающее сегодня одно из первых мест по числу летальных исходов, мы увидим колоссальную разницу. В Англии – примерно 146 случаев летального исхода, в России – 908. В области инфекционных заболеваний разрыв между Европой, США и Россией составляет 6 и более раз, в отношении убийств и самоубийств – 12 раз. Нет другой страны, в которой убийства и самоубийства хоть немного приближались бы к страшной статистике российской действительности.
Мне кажется, что отсюда следует существенный вывод о причинах смертности народа России. Оказывается, 2/3 причин смертности не относятся к медицинским факторам (наркомания, различные заболевания и т. д.). Даже если бы мы повысили жизненный уровень, народ в России вымирал бы с той же высокой скоростью. Результаты исследования показали, что основными причинами смертности являются социальная агрессия и социальная апатия населения. Социальная агрессия возникает, когда человек не видит, чтобы власть предпринимала хоть какой-нибудь шаг, оберегающий самое ценное, не сбережения, которых, кстати, у большинства нет, а уклад жизни, общественную генетику. Если говорить об онкологических заболеваниях, – это то, с чем человек приходит в мир, и никуда тут не денешься – наследственность. А все остальное – в основном новоприобретенное. Под термином «общественная генетика» я понимаю общественную среду, реформы, которые проводятся в стране.
Страшно подумать, что всего лишь в течение 5–7 лет произошла переоценка фундаментальных ценностей: ученые, врачи, т. е. люди, которые стояли на одной из первых ступеней в иерархии ценностей, были скинуты на последнюю ступень. По данным медицинских исследований, всплеск смертности приходится на 1993–1994 годы проведения реформ в нашей стране. Недаром г-н Чубайс сказал, что не 1998 год был критическим (дефолт и все прочее), а 1994, когда мы «прошли по лезвию».
Проанализируем ситуацию, существовавшую в то время: за 1 год безработица возросла на треть, инфляция – в 1 000 раз, и человек, выросший в совершенно другой среде, испытывал шок, не зная, что делать с собой и своими детьми. Этот шок и вызвал реакцию внутри, как протест, который, к сожалению, не выплеснулся наружу. Так возник феномен агрессивности и социальной апатии, когда человек презирает власть, не хочет даже думать о ней, замыкается в себе. Отсюда безразличие на выборах и т. д. На долю именно этих факторов приходится 2/3 всех причин смертности. Следовательно, надо менять окружающую человека экономическую среду, т. е. реформы.
Теперь об источниках нового реформирования, которыми мы располагаем. Сегодня 2/3 создаваемого чистого дохода России не относится ни к российскому бизнесу, ни к труду. Это то, что в России от Бога – ее природные ресурсы, и доход, который страна получает от их использования, должен принадлежать всем, т. е. всему обществу. А таким общим благом сегодня беспардонно пользуются 5–10 процентов населения и прежде всего 0,02 процента, приходящихся на долю наших безнравственных олигархов. Тем самым народ России оказался отрезанным от основного источника.
Устранение этой вопиющей несправедливости и является одной из важнейших, я бы сказал, определяющей стратегической линией нашего долгосрочного развития. И в данном случае ни о каком новом переделе собственности речь не идет. Мы говорим об изменении нынешнего механизма налогообложения, переходе страны на систему рентных платежей. При этом необходимо будет внести и определенные изменения в институциональную структуру экономики. Недра, земля должны на деле стать объектами общественной собственности. В распределении доходов страны от использования ее общественного достояния дол- жен получить равное право каждый гражданин России – система национального дивиденда.
В систему налогов надо внести ряд принципиальных изменений. Во-первых, немедленно отменить плоскую шкалу и освободить работников с доходами ниже 1000 долларов в месяц от подоходного налога. Но при этом одновременно ввести прогрессивную шкалу налогообложения на сверхдоходы богатых. В этом же направлении должна действовать и система прогрессивного обложения недвижимого имущества по рыночным ценам.
Много и других вопросов, которые необходимо решить в русле намечаемых новых подходов к реформированию российской экономики. Прежде всего речь идет об изменении налогооблагаемой базы единого социального налога. Существующая практика главным образом поддерживает льготный режим сырьевых отраслей. Их доля заработной платы не превышает 10–15 процентов. В наукоемких отраслях, где эта доля достигает 60–75 процентов и более, создается искусственный интерес для развития науки и конкурентных производств. Много усилий следует приложить и для того, чтобы повысить ответственность за результаты принимаемых решений.
Надо четко понимать, что без принципиального изменения действующего механизма, работающего против России, мы не сможем двигаться дальше. Иначе говоря, нынешние реформы перекрывают России путь в будущее.
Но самое главное состоит в том, что у отечественной экономической науки накоплен необходимый нужный задел, позволяющий перестроить ее на новых, эффективных принципах, обеспечивающих изменение состояния проблемы эффективности и социальной справедливости.
Дело за властью!