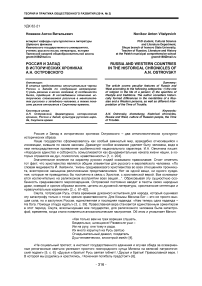Россия и запад в исторических хрониках А. Н. Островского
Автор: Новиков Антон Витальевич
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Культурология
Статья в выпуске: 2, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье представлены отличительные черты России и Запада по следующим категориям: 1) роль религии в жизни человека; 2) особенности быта, традиций. В исследовании отмечено исторически сложившееся различие в менталитетах русского и западного человека, а также показано разное отношение к Смутному времени.
А.н. островский, драматургия, исторические хроники, Россия и запад, культура русского народа, смутное время
Короткий адрес: https://sciup.org/14936389
IDR: 14936389 | УДК: 82-21
Текст научной статьи Россия и запад в исторических хрониках А. Н. Островского
Россия и Запад в исторических хрониках Островского – два антагонистических культурноисторических образа.
Наше государство сформировалось как особый замкнутый мир, враждебно относившийся к иноземцам, жившим по своим законам. Драматург особое внимание уделяет быту человека, видя в нем непосредственное проявление особенностей национального характера. И.А. Овчинина пишет: «Народное единство и соборность осмысливаются как фундаментальные начала жизни нации, в которых отразился ее дух, психология, нравственность» [1, с. 204].
Значительное влияние на характер русских людей оказывало православие. Стоит отметить тот факт, что христианство является общим элементом для русского и европейского человека. «По словам медиевиста Й. Хейзинги, “жизнь средневекового христианства во всех отношениях проникнута, всесторонне насыщена религиозными представлениями. Нет ни одной вещи, ни одного суждения, которые не приводились бы постоянно в связь с Христом, с христианской верой. Все основывается исключительно на религиозном восприятии всех вещей…”. Обрисовывая эту сущностную особенность средневекового миросозерцания, Островский постоянно вводит в тексты своих народных драм, комедий и хроник обрывки молитв, цитаты из духовной литературы, христианские сентенции и нравоучительные изречения» [2, с. 81–82].
Смута, потрясшая Русь, стала временем духовного испытания для народа, который оценивал эту катастрофу только с точки зрения нравственности. Для Козьмы Минина Бог – это не просто высшая сила, но и заступник России, единственная и последняя надежда: «Нам теперь одна надежда – На бога. Помощи откуда ждать!» [3, с. 39]. Православная вера становится единственным ориентиром в этот период. Смута, всколыхнувшая все государство, для религиозного человека была катастрофой, временем, когда стали появляться апокалипсические настроения. Об этом и упоминает Минин:
«Как только вам не грех воришек слушать, Бездельных, шлющихся! Развесьте уши – Им на руку, они тому и рады.
Их много изрыгнул на Русь святую Огнедыхательный диавол, поядатель Душ человеческих, злохитрый змей» [4].
«Не социальный протест, а инстинкт государственного единения и жгучая обида за оскверненные религиозные святыни увлекают простого новгородского купца Минина на великий патриотический подвиг» [5, с. 6]: «Друзья и братья! Русь святая гибнет! / Друзья и братья! Православной вере, / В которой мы родились и крестились, / Конечная погибель предстоит» [6].
Бог – единственная сила, которая может управлять жизнью человека, наказывать за грехи, а после покаяния вновь дарует милость человеку. Об этом и говорит Козьма:
«Господь не век враждует против нас
И грешнику погибели не хочет.
Придет пора, молитвой и слезами
Святителей и праведных людей
Разящий гнев господень утолится И нам, смиренным, снидет благодать. Господь смиряет и господь возносит, Введет в беду и изведет из бед» [7].
Русский человек, обращаясь к Господу, заботится, прежде всего, о чистоте души, о нравственном своем совершенствовании. Западный человек обращается к Богу лишь для собственной наживы, собственной корысти. «Русь совсем не свята и не почитает для себя обязательно сделаться святой и осуществить идеал святости; она – свята лишь в том смысле, что бесконечно почитает святых и святость, только в святости видит высшее состояние жизни, в то время как на Западе видят высшее состояние также и в достижениях познания или общественной справедливости, в торжестве культуры, в творческой гениальности» [8, c. 112].
«Островский вводит в действие своих пьес литургическое измерение времени. Путем возведения бытовой эмпирии к бытию абсолютному он замыкает временную цепь и вызывает “короткое замыкание” между двумя планами бытия – мирским и мировым» [9].
Православие – не только объединяющий фактор в эпоху катастрофы, но и основа жизни, формирующая духовную культуру. Запад не столь религиозен. Государственная катастрофа на Руси становится лишь предметом обогащения польских панов.
Не только православие объединяло русских людей. Бытовая культура нашего народа – явление своеобразное. Народная жизнь, тесно переплетаясь с православием, приводила к появлению такого понятия, как “бытовое православие”, в котором отразилась реально сложившаяся религиознообрядовая практика русского народа, и в первую очередь крестьянства» [10, с. 647].
Важной для русского человека была память и, вместе с ней, почитание усопших родственников. Перед венчанием на царство государи были обязаны посетить умерших родителей. Усыпальницей великих московских князей был Архангельский собор московского Кремля. Об этом говорят в народе: «К Архангелу, к родителям пошел!» [11]. У Островского царь неотделим от национальных традиций. Как и простой народ, монарх почитает умерших родителей. Дмитрию чужды традиции русских. Его шествие в Архангельский собор, «к родителям», – обряд, лишенный всякого сакрального смысла, не имеющий никакого психологического отклика в душе.
Мотив памяти в исторических хрониках присутствует на протяжении всего действия: русский человек вспоминает не только своих ближних родственников, но и царей (Ивана Грозного, Федора Ивановича, Бориса Годунова). Такой ракурс художественного изображения жизни человека выявляет сущность народа: он размышляет о жизни минувшей и настоящей, сравнивая, таким образом, недалекое прошлое со «смутными» временами. Мотив памяти «собран» драматургом из различных религиозных и общекультурных элементов. К религиозным можно отнести родительскую субботу, о которой упоминает драматург:
«Басманов
За упокой-то
Ты сродников своих помянешь после. Масальский
Ты подожди родительской субботы» [12].
У русских людей было принято поминать усопших родственников в определенный день – субботу, которая считается днем покоя и, следовательно, наиболее подходящим для молитвы.
К общекультурным элементам относится память об эпохе Ивана Грозного, Федора Ивановича и Бориса Годунова. Если поминание родителей связано с духовной культурой, то воспоминание о правлении Грозного связывается с государством, когда власть была представлена законным царем, и, следовательно, в стране был порядок. Такая ретроспектива расширяет временное пространство хроники. Стоит отметить тот факт, что народ предстает в нерасторжимом единстве с царями, правителями государства, а значит, Русь в его понимании – одна большая семья.
Важно отметить взаимоотношения детей и родителей у русских людей в исторических хрониках Островского. Почитание, уважение, благоговение перед взрослыми и старшими людьми было делом каждого человека: «Ты лет не чтишь, ты сдуру поднял руки / На старика седого!» – заключает Калачник [13]. Без родительского благословения молодежь не начинала важных дел.
Русский народ привычен к жестокости царей, к казням: «Изменников и Бог велит казнить» – заключают в народе [14]. Образ жестокой Руси возмущает Самозванца: «Вы знаете одно лишь средство – страх! / Везде, во всем вы властвуете страхом…» [15].
Интриги становятся для Руси частью жизни «высшего» сословия. Басманов предупреждает Самозванца: «Великий царь, не верь своим боярам, / Не верь речам, улыбкам и поклонам…» [16]. Дмитрий не хочет править по жестоким «татарским» законам – такое непринятие русской жизни приведет к его гибели. Самозванец признается: «Я себе оставлю / Одно святое право всех владык – / Прощать и миловать» [17].
Русский народ жил общиной. Такой уклад формировал определенную психологию поведения и уклад жизни. Самозванец, обращаясь к Шуйскому, произносит: «Иль тебе не страшен <…> суд мирской?». Такое обращение указывает на важность общественного мнения. Община (мир) становится не только тем элементом, который объединяет народ, сохраняет нравственные основы нации, но и порицает. Самозванцу чужда идея общинности, так как Запад воспитывал и развивал, прежде всего, личностное начало. И.Е. Забелин пишет, что на Руси «идеал хорошего, достойного человека личность искала не в самой себе, а в своем отечестве…» [18, c. 22].
Россия в исторических хрониках Островского не просто замкнутое государство, но страна с высокой культурой, своеобразным бытом и традициями.
Запад представлен в хрониках, прежде всего, Самозванцем и Мариной Мнишек, дочерью знатного польского шляхтича.
Самозванец – главный противник Шуйского в борьбе за престол. Он не знает особенностей русской жизни, ее устройства. «Происходит национальная драма, драма столкновения коренного, органического, общего с индивидуальным, особенным, неорганическим» [19, с. 31].
Василий Шуйский резко отзывается о вере Самозванца: «…с ним два попа латинских». Эпитет «латинский» указывает на католическую веру, что было недопустимо для русского государя. Существительное «поп» имеет пренебрежительную окраску, что указывает на пренебрежение не только к иноверцам, но и к лжецарю. Тем самым Запад враждебен был нашему государству.
Дмитрий Самозванец активно проводит политику римского папы по превращению православного Московского государства в католическое. Об этом и говорит иезуит Самозванцу: «Давно умы святейших наших пап / Обращены на этот север дальний» [20]. А.Н. Островский здесь исторически точен: неоднократно католическая церковь предпринимала попытки по «религиозному завоеванию» Руси. «Давно умы святейших наших пап…» – ретроспектива, позволяющая осознать всю катастрофичность сложившейся ситуации, так как решался вопрос: быть Московскому государству католическим или нет. В образе «дальнего севера» Островский запечатлел всю Россию. Эпитет «дальний» создает пространство, дистанцирует Запад и Россию, а наступление войск Самозванца на Русь и его конечное воцарение превращается в крестовый поход. Кроме этого, выражение «святейших пап» употребляется только в католической традиции.
Стоит также сказать о различии менталитетов. Отношение Самозванца к Марине, будущей царице, отличается от принятого на Руси, где женщина по своему социальному положению была ниже мужчины. Марина Мнишек верно указывает, что русские женщины «по мужу лишь царицы» [21]. Однако она не желает разделить такую участь, она хочет стать полноправной правительницей Московского государства: «А я хочу теперь короноваться, / Девицею, и мне твои бояре / И воинство пусть так же крест целуют / На подданство, как и тебе» [22]. Для Самозванца равноправие с женщиной – обычное явление. Для нашей страны равенство мужчины и женщины в правах, в социальном статусе было недопустимым. В этом видится отличие Самозванца от истинно русских царей. Критик И.И. Иванов пишет об отношениях Лжедмитрия и Марины: «…он – жертва увлечения, жертва бурной безотчетной страсти, она – холодная, практически расчетливая, честолюбивая кокетка» [23, с. 43].
Самозванец сам видит разницу между русскими и западными женщинами: «Красавицы в Москве у вас не редкость, / По красоте им равных не найдешь / <…> Литовские красавицы не то! / В очах огонь, в речах замысловатость! / То ласкою безмерною дарят, / то гордостью нежданною окинут. / Им приказать нельзя, нельзя принудить / Любить тебя; а долго и прилежно / Ухаживать тебя они заставят» [24].
Женщине на Руси не принято было выбирать женихов, важно было решение родителей. Самозванец, живущий по западным обычаям, желает покорить сердце девушки, как это было принято в Европе: «Желал бы я пред нею / С соперником сразиться…» [25]. Однако Масальский предупреждает: «Вели любить, и разговор короток».
Русь, представляя собой замкнутое государство, привыкла к тому, что нация была однородна: не допускалась жизнь иноверца рядом с православным, «смешение» наций было недопустимым. Запад в этом отношении был более демократичным. Если свита русского царя состояла только из русских бояр, то приближенные Самозванца – это поляки, немцы, народ разных национальностей. Это не тревожило представителей Запада, но для русского человека это было невозможным. Поэтому столь эмоциональна реакция из народа:
«Голоса в народе
К Архангелу, к родителям пошел!
1-й голос из народа
Какой народ за ним! Все в разном платье.
2-й голос из народа
Известно кто: черкасы, угры, ляхи» [26].
«Разное платье» – многочисленные национальности, окружавшие Дмитрия Самозванца. Такое «смешение» наций воспринималось враждебно русским народом. В этом – отличие России и Запада.
Русь – страна консервативная. Строгое соблюдение обычаев было для европейцев необязательным элементом повседневной жизни. Марина Мнишек произносит: «Смешной народ, обычаев старинных / Он изменить не может» [27]. Такое консервативное устройство жизни русского человека порождало особый быт, культуру, мировоззрение. То, что было свято для русского человека, у западного не находит отклика в душе, кроме негативной оценки. Марина, е привыкшая к подобному течению жизни, признается: «…трудно мне и скучно привыкать / К поклонам их тяжелым, к дикой речи / И поступи размеренной и тихой…» [28]. Особенности русской жизни (поклоны, «дикая речь») чужды западному человеку, для него это «скучно».
Островский, таким образом, противопоставил Русь и Запад не только «внешне», но и «внутренне», с точки зрения сложившегося менталитета и, соответственно, мировоззрения.
Ссылки:
-
1. Овчинина И.А. Русская история и национальный характер в пьесе А.Н. Островского «Козьма Захарьич Минин, Сухорук» // Духовно-нравственные основы рус. лит-ры. Кострома, 2007. Ч. 1.
-
2. Шалимова Н.А. Человек в художественном мире А.Н. Островского. Ярославль, 2007.
-
3. Островский А.Н. Собрание сочинений в X т. М., 1960. Т. V.
-
4. Там же. С. 33–34.
-
5. Лебедев Ю.В. О национальном своеобразии драматургии А.Н. Островского // Литература в школе. 2008. № 8.
-
6. Островский А.Н. Указ. соч. С. 100.
-
7. Там же. С. 87.
-
8. Бердяев Н.А. Судьба России. М., 2010.
-
9. Шалимова Н.А. Указ. соч. С. 111.
-
10. Русские: история и этнография. М., 2008.
-
11. Островский А.Н. Указ. соч. С. 31.
-
12. Там же. С.36.
-
13. Там же. С.127.
-
14. Там же. С.53.
-
15. Там же. С.45.
-
16. Там же. С.46.
-
17. Там же. С.50.
-
18. Забелин И.Е. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях. М., 2012.
-
19. Москвина Т.В. Русская история в «Совестном суде» А.Н. Островского // Островский А. Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский. СПб., 2007.
-
20. Островский А.Н. Указ. соч. С. 47.
-
21. Там же. С. 105.
-
22. Там же.
-
23. Кашин Н.П. Драматическая хроника А.Н. Островского «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский» // Журнал Мин. народ. просвещ. Петроград, 1917. № 6.
-
24. Островский А.Н. Указ. соч. С. 93.
-
25. Там же. С. 64–65.
-
26. Там же. С. 61.
-
27. Там же. С. 100.
-
28. Там же.