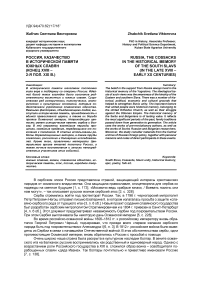Россия, казачество в исторической памяти южных славян (конец XVIII - 2-я пол. XIX в.)
Автор: Жабчик Светлана Викторовна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 6, 2020 года.
Бесплатный доступ
В исторической памяти югославян постоянно жила вера в поддержку со стороны России. Идейной базой таких взглядов было осознание родственности восточных и южных славян. Существовал ряд исторических, политических, экономических и культурных оснований, которые содействовали укреплению славянского единства. Важными факторами, объединяющими людей, выступали историческая память, принадлежность к единой православной церкви, а также их борьба против Османской империи. Непреходящую ценность имеет историческая память сербов и болгар. В ней отражены важнейшие периоды прошлого, семейные предания, передающиеся от поколения к поколению. В статье использованы работы дореволюционных авторов, а также труды советских, российских и болгарских исследователей. Кроме того, привлечены материалы Центрального архива внешней политики России, а также личные воспоминания и записки непосредственных участников этих событий.
Южные славяне, казаки, славянское единство, историческая память, эпос, поэзия, народное творчество
Короткий адрес: https://sciup.org/149134830
IDR: 149134830 | УДК: 94(470.62)“17/18” | DOI: 10.24158/fik.2020.6.17
Текст научной статьи Россия, казачество в исторической памяти южных славян (конец XVIII - 2-я пол. XIX в.)
В сербском эпосе Россия представлена страной, защищающей интересы христианских народов от османского владычества. Она защищала православие, олицетворяла для сербов их надежды на светлое будущее [1, с. 173]. «Москвичи ведь храбрые юнаки, / Воевать помочь они нам могут», – так описывает русских воинов сербский эпос [2, с. 328].
Сербы стремились войти под протекторат России. Так, в 1796 г. черногорский митрополит Петр Петрович Негош отправил письмо Екатерине II, в котором излагалась просьба о защите «славяно-сербского рода от турецкого ига» [3, л. 6 об.]. Новый проект создания славянского государства был разработан сербским митрополитом Стратимировичем и в 1804 г. привезен в Санкт-Петербург [4, л. 6 об.]. Этот документ предусматривал независимость Сербии под покровительством России. При этом Сербия выплачивала бы некоторую дань Османской империи [5, с. 228].
Во время российско-османской войны 1806–1812 гг. к российскому императору вновь обратился Георгий Петрович Черный, подчеркивая, что прежде всего «первое желание сербского народа быть под покровительством» Александра I [6, л. 3]. В 1812 г. российские войска были выведены из Сербии в связи с начавшейся Отечественной войной. В этих обстоятельствах сербы, одни противостоящие Османской империи, вновь обратились к России с просьбой о помощи.
Очень широко наша страна была раскрыта в культурном наследии болгар. В зените османского ига на Балканах русские воспринимались как родственный и единоверный народ. Однако с возрастанием роли Российского государства в XIX в. сложился образ воина – освободителя порабощенных славян «дяда Ивана». Так болгары почтительно и приветливо именовали Россию [7, с. 138].
В отношении казачества бытовало мнение, что оно является воплощением «деда Ивана» в самом благородном и героическом смысле [8, с. 357]. Более того, существовало мнение, что казаки в действительности были этническими болгарами. Об этом, в частности, говорится в публикации Л. Каравелова. В основу данного рассказа легли впечатления, услышанные им от родной бабушки. В нем говорилось, что в былые времена русские создали особое войско из числа болгар-добровольцев для борьбы с османами. Кроме того, этот же автор приводит содержание повествования нищего гусляра, описывающего судьбу мифического героя – болгарина Беклеша, который прибыл из России во главе отряда освобождать Болгарию. При этом подчеркивалось, что он находился в тесном взаимодействии с А.В. Суворовым и Г.А. Потемкиным по заданию Екатерины II [9, с. 146].
В фольклоре сербов и болгар имеются свидетельства о российской помощи освободительному движению на Балканах. В результате поражения Первого сербского восстания Карагеоргий покидает родину. В то же время в сказании отмечается его вера в то, что Россия поможет ему одержать победу над османами: «И вернусь в Шумадию я скоро, / И приеду в белую Тополу!» [10, с. 350].
В условиях войны 1828–1829 гг. в общественном мнении болгарского общества появилась надежда на окончательное освобождение от многовекового османского порабощения. По этому поводу в церквях прошли молебны в честь русских освободителей [11, с. 33]. Переезд болгар в Россию отразился в народном творчестве. В песенном наследии наблюдается желание обрести новую жизнь – прекрасную и зажиточную: «в славна Русия, мари, ще идем, / в Русия на лесни-ната, / в Русия на свободата! / Че там имат земи широки, / широки, още, мари, свободни! / Ще орем и ще сееме – / свободно ще живееме!» [12, с. 438]. Важное место в песнях занимают исторические мотивы причины переселения болгар, борьба против османского гнета.
Заслуживает внимания стихотворение Константина Изюмова, студента Венской политехнической школы. В нем он молит Россию о помощи: «На север далекий, тяжелыми, серыми тучами скрытый, / Я взор мой с невольною жгучей слезой обращаю… / Напрасны ли будут моленья? / … Я не знаю… Я верю, надеюсь» [13, л. 12]. Подобные настроения были широко распространены в сербском обществе. Об этом пишет в воспоминаниях участник боевых действий Н.В. Максимов. Он подчеркивает, что в Сербии «остались все-таки добрые воспоминания о русских» [14, с. 137]. Сербы верили, что «руског народ да помогне блиском српском народу» в решении одной из важнейших задач, а именно в вековой «борби» за освобождение [15, с. 10].
Больше всего песен в Болгарии было написано о российско-османской войне 1877–1878 гг. В них нашла отражение следующая тематика: начало войны, преодоление Дуная русскими войсками, радостная встреча освободителей, ход военных действий [16, с. 123]. Лейтмотивом болгарской народной песни стало выражение искренних чувств и любви к России. Это хорошо видно в следующих строках: «Русскому народу в мире, / Первому почет, любовь! / Он наш друг и покровитель / И защитник навсегда» [17, с. 11]. Выдающийся болгарский поэт И. Вазов так выразил в стихах отношения болгар к России: «По всей Болгарии сейчас / Одно лишь слово есть у нас, / И стон один, и клич: Россия!» [18, с. 120].
О героическом форсировании Дуная русскими солдатами и казаками повествует песня «Из-гряло е ясно слънце»: «та е гряло денем-нощем, / цели три дни и три нощи, / не е било ясно слънце, / най са били казаците, / казаците, бре, донските!» [19, с. 120]. В трудной ситуации командующий обращается к царю и получает приказ во что бы то ни стало переправиться через Дунай. Удар, нанесенный русскими войсками, был так силен, что османы «испугались и сразу побежали» [20, с. 237]. Ореолом исключительной смелости и героизма наделялись казаки: «Ну и храбрый же народ! / Сколько сил в нем молодецких! / Вот один казак ведет / Целый полк солдат турецких» [21, с. 143].
Вызывает интерес и песня «Пустите клисурци станами московци!». В ней показывается героизм жителей Клисуры и Панагюриште в период Апрельского восстания 1876 г. Их называют «московцами и донскими казаками». Такое сравнение является высшей оценкой мужества. В лирических песнях о войне постоянно присутствует тема о радостных встречах русских воинов с болгарами. Любая болгарская семья считала за честь принять у себя русских освободителей: «Тим у поелени тънката пушка, / От рамо, Радо, от Рамо! / Тим у приготви топла обяда, / Да хапне, Радо, да хапне?» [22, с. 127].
Красавица Бойка приглашает на постой казаков: «Русские, братья-казаки, / Имеем место для вас, / Для вас и для коней, / И для коней зерно» [23, с. 243]. Это несмотря на то, что постойная повинность была очень тяжела для болгар. В другом, не менее наглядном, примере, когда был освобожден город Систов, болгары буквально состязались за право принять у себя дома русских солдат как самых почетных гостей, угостить их вином, фруктами и табаком [24, с. 301]. Подобные настроения чутко уловил казачий офицер А. Квитка, участник войны 1877–1878 гг. В воспоминаниях он подчеркивает, что русские были для болгар братьями, призванными, «чтобы прогнать всех турок из Болгарии» [25, с. 307].
Глубокий след в историческом сознании оставили битвы за Плевну и Шипку. Так, один из жителей Плевны, приветствуя освободителей, отметил, что еще со времен Екатерины II болгары верили, что Россия обязательно уничтожит османский гнет [26, с. 110]. В некоторых песнях, посвященных победе под Плевной, значительное внимание уделялось ратным подвигам казаков. Тема боевого сотрудничества звучит в песне «Руси и българи на Шипка», где «солдаты-храбрецы, солдаты, молодые казаки, казаки отборные юнаки с длинными, острыми пиками» перебрались на другой берег Дуная, достигли Шипки и началось крупное сражение. Здесь указывается, что в битве на Шипке наряду с русскими участие принимали ополченцы-болгары: «Русские, донские казаки / И ополченцы-болгары / Против этих читаков, / Анадольских зебеков! / Русские падают – не падают, / Больше всего падает читаков» [27, с. 245]. Или: «До триста души казаци, / Казаци, руска конница, / Със тези сиви катании / Бърже при народ пристигат / И черкезите разби-ват, / И пак им пътя отварят» [28, с. 566]. Об этих событиях повествует болгарская историческая песня: «Били са се, клали са се три дни и три нощи, / Не надвило, не надвило силната Турция, / Най-надвила, най-надвила славната Русия» [29, с. 128].
Сокровенные стихи о событиях на Шипке написал И. Вазов: «Шипка! Шипка! Слышен гром. / Гурко перешел Балканы! / Шумно, празднично кругом, / И нарядны и румяны / К храбрым девушки спешат. / И в цветах ряды солдат, / Ружья, сабли, кони, пушки!.. / Словно братьев дорогих, / Все встречают их / «Здравствуйте, братушки» [30, с. 13].
В народном творчестве не забыта лихая удаль казаков, освобождавших Софию. Так, в песне звучат следующие проникновенные слова: «Как поднялась вся София, / Все поднялись, чтобы встретить / Русских лихих удальцов, / Русских донских казаков. / Цветами братьев встречали, / Вином удальцов угощали, / Дары им дарили на счастье, / Словно на свадьбе богатой» [31, с. 70]. Х. Йорданов считает, что болгарский народ обессмертил казаков в своих песнях [32, с. 355].
Российско-османская война 1877–1878 гг. была рельефным проявлением русско-болгарской дружбы, боевого сотрудничества против османского ига. Этому способствовали общность языка, культуры, религии, а также многолетние исторические связи. Югославяне уделяли казачеству особое внимание. В их представлении казаки были олицетворением мужества и стойкости, так как реже всех попадали в плен. При этом южные славяне редко привязывали казаков к конкретной географической местности. Для них определяющим служило то, что казачество, по их мнению, являлось авангардом российской армии в борьбе против османских угнетателей.
Ссылки:
-
1. Лещиловская И.И. Россия в сознании сербов // Славянские народы Юго-Восточной Европы и Россия в XVIII в. М., 2003. С. 152–174.
-
2. Сербский эпос / сост. Н.И. Кравцов. В 2 т. М., 1960. Т. 2. 463 с.
-
3. Архив внешней политики Российской империи (АВПРИ). Ф. 95. Оп. 95/1. Д. 28. Л. 6 об.
-
4. Там же.
-
5. Петров А.Н. Война России с Турцией 1806–1812 гг. В 3 т. СПб., 1885. Т. 1. 412 с.
-
6. АВПРИ. Ф. 95. Оп. 95/1. Д. 49. Л. 3.
-
7. Макарова И.Ф. Легендарные представления болгар о России в XV–XVIII вв. // Балканские исследования. Российское общество и зарубежные славяне XVIII – начало XX в. М., 1992. Вып. 16. С. 130–140.
-
8. Йорданов Х. Донские казацкие песни и Освободительная война // Литература и история. Освободительная война 1877–1878 гг. и болгарская литература. Статьи болгарских литературоведов. М., 1979. С. 353–346.
-
9. Макарова И.Ф. Россия в представлениях и отношении к ней болгар (начало XIX в. – 1875 г.) // Россия и Балканы: из истории общественно-политических и культурных связей (XVIII в. – 1878 г.). М., 1995. С. 142–161.
-
10. Сербский эпос. Т. 2. 463 с.
-
11. Мещерюк И.И. Переселение болгар в Южную Бессарабию 1828–1834 гг. Кишинев, 1965. 208 с.
-
12. Българско народно творчество. В 12 т. София, 1961. Т. III. 672 с.
-
13. АВПРИ. Ф. 166. Оп. 508/2. Д. 130. Л. 12.
-
14. Максимов Н.В. Две войны 1876–1878 гг. Воспоминания и рассказы из событий последней войны. СПб., 1879. 598 с. 15. Вулетиh В. Руси и срби у сусрету. Нови Сад, 1995. 309 с.
-
16. Данчев Г. Освободительная война в болгарских исторических песнях // Незабываемый подвиг. Некоторые аспекты русско-турецкой войны 1877–1878 гг. и освобождение Болгарии от османского ига. Львов, 1980. С. 122–129.
-
17. Болгарская народная поэзия / сост. И.М. Шептунов. М., 1953. 239 с.
-
18. Вазов И. Сочинения. В 6 т. Т. 1. М., 1956. 832 с.
-
19. Българско народно творчество. Т. III. С. 120.
-
20. Шептунов И.М. Отражение Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. в фольклоре // Балканские исследования. М., 1978. Вып. 4. С. 228–249.
-
21. Вазов И. Указ. соч. С. 143.
-
22. Данчев Г. Указ. соч. С. 127.
-
23. Шептунов И.М. Указ. соч. С. 243.
-
24. История Болгарии / под ред. П.Н. Третьякова [и др.]. В 2 т. Т. 1. М., 1954. 575 с.
-
25. Квитка А. Записки казачьего офицера. Война 1877–1878 гг. СПб., 1903. 307 с.
-
26. Гурьев В.В. Письма священника с похода 1877–1878 гг. М., 1883. 320 с.
-
27. Шептунов И.М. Указ. соч. С. 245.
-
28. Българско народно творчество. Т. III. С. 566.
-
29. Данчев Г. Указ. соч. С. 128.
-
30. Здравствуйте, братушки! К 100-летию освобождения Болгарии от османского ига : альбом / подбор болгарских народных песен Е. Огняновой ; пер. М. Маринова ; лаковые миниатюры К. Кукулиевой, Б. Кукулиева. М., 1978. 104 с.
-
31. Там же. С. 70.
-
32. Йорданов Х. Указ. соч. С. 355.
Редактор: Тюлюкова Мария Олеговна
Переводчик: Кочетова Дарья Андреевна
Список литературы Россия, казачество в исторической памяти южных славян (конец XVIII - 2-я пол. XIX в.)
- Лещиловская И.И. Россия в сознании сербов // Славянские народы Юго-Восточной Европы и Россия в XVIII в. М., 2003. С. 152-174
- Сербский эпос / сост. Н.И. Кравцов. В 2 т. М., 1960. Т. 2. 463 с
- Архив внешней политики Российской империи (АВПРИ). Ф. 95. Оп. 95/1. Д. 28. Л. 6 об
- Архив внешней политики Российской империи (АВПРИ). Ф. 95. Оп. 95/1. Д. 28. Л. 6 об
- Петров А.Н. Война России с Турцией 1806-1812 гг. В 3 т. СПб., 1885. Т. 1. 412 с