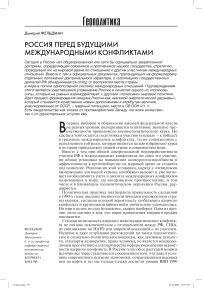Россия перед будущими международными конфликтами
Автор: Фельдман Дмитрий Михайлович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Геополитика
Статья в выпуске: 12, 2007 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/170164065
IDR: 170164065
Текст статьи Россия перед будущими международными конфликтами
россия перед будущими международными конфликтами
Сегодня в России нет общепризнанной или хотя бы официально закрепленной доктрины, определяющей союзников и противников нашего государства, стратегию, проводимую им на мировой арене по отношению к другим участникам международных отношений. Вместе с тем в официальных документах, претендующих на формулировку отдельных положений доктринального характера, в публикациях государственных деятелей РФ обнаруживается отход от восприятия места страны в мире в логике однополярной системы международных отношений. Подтверждением этого является участившееся упоминание России в качестве одного из «полюсов» силы, который на равных взаимодействует с другими «полюсами» мировой политики. Идет процесс формирования имиджа России как «великой энергетической державы», который становится качественно новым дополнением к атрибутам величия, унаследованным от СССР, – ядерный потенциал, место в СБ ООН и т. п.
Есть свидетельства как отказа от противодействия Западу «по всем азимутам», так и от односторонних уступок ему.
в период выборов и обновления высшей федеральной власти на разных уровнях подчеркивается позитивное значение преемственности проводимого внешнеполитического курса. Но как бы в тени остается подготовка к участию (в идеале – к победе!) в грядущих международных конфликтах, тесно сопряженных с исполнением той роли, которая является целью избранного курса и по праву принадлежит нашей стране в современном мире.
Вместе с тем при общей доктринальной непроработанности участия Р-Ф в международных конфликтах ни само это участие, ни общая установка на повышение конкурентоспособности и эффективности в противоборстве на мировой арене не ставятся под сомнение. Р-еализация этой установки, наряду с очевидными выигрышами для нашей страны, неизбежно вызовет и уже вызывает необходимость учета и анализа международных конфликтов назревающих в мире, где конфликтное противостояние, в том числе и в ближайшем геополитическом окружении Р-оссии, расширяется.
Политическая практика подтвердила правильность сделанной в 1990-х годах высшим военно-политическим руководством страны оценки, согласно которой вероятность глобального ядерного конфликта и крупномасштабных войн значительно уменьшилась. Но мир в целом не стал безопаснее, скорее наоборот. Одна из причин этого состоит в том, что порог применения ядерного оружия понижается.
ФеЛьДМАН Дмитрий Михайлович – д. п. н., профессор кафедры мировых политических процессов МГИМО(У) МИД РФ
Сегодня возможность ядерного межгосударственного конфликта не связана исключительно с отношениями между Р-Ф, США-, их союзниками по НА-ТО или широкой коалицией с их участием. Наличие и даже углубление расхождений по таким идеологическим и социально-политическим вопросам, как духовные ценности, стандарты демократии, права человека, не является непреодолимым препятствием для партнерства в сфере уменьшения вероятности ядерного конфликта. В Р-оссии тезис об ее растущей мощи и величии все чаще сталкивается с осознанием того, что даже в условиях современного подъема экономики, сохраняющихся высоких цен на нефть и газ мы только-только достигли уровня ВВП 1990
года. По оценке члена-корреспондента Р-А-Н С. М. Р-огова, директора Института США- и Канады, за 1990–2007 годы ВВП США- вырос в два с лишним раза. Сегодня он превосходит российский примерно в 20 раз по обменному курсу и в 8 раз по паритету покупательной способности. Такого большого разрыва между США- и СССР- не было никогда.
Ни рост российской экономики, который на Западе часто склонны рассматривать как «вызов», ни популярный в Р-оссии антиамериканизм, ни культивируемая на Западе русофобия не колеблют осознания недостаточной ресурсной и финансовой обеспеченности возврата к тому уровню вероятной эскалации конфликта между ними, который существовал в годы холодной войны. Сегодня военный бюджет США- составляет около половины военных ассигнований всех остальных стран мира (46% по данным СИПР-И, 43% – по данным Центра контроля за вооружениями). Затраты на эти цели составляют в Великобритании 59 млрд. долл., Франции – 53 млрд. долл., в КНР- – почти 50 млрд. долл., в Японии – 43,7 млрд. долл. В Р-оссии, увеличившей свои военные расходы за 1996–2005 годы на 48%, тратится на оборону 64,4 млрд. долл1. Ясно, что вероятная цена вооруженного конфликта между державами, претендующими на статус «полюса силы», подкрепляет, а не отменяет действие «фактора взаимного сдерживания».
Несмотря на имеющиеся расхождения, интересы НА-ТО и Р-Ф в ряде случаев совпадают. В качестве примеров можно упомянуть миротворческую операцию А-льянса в А-фганистане, осуществляемую при разнообразной, в том числе военно-технической, поддержке Р-Ф или совместные акции в Средиземном море, позволившие после большого перерыва продемонстрировать там флаг российского ВМФ. Однако все это не дает достаточных оснований для игнорирования тех вызовов и угроз, вызванных расширением этого военно-политического блока, созданием им новых позиционных районов системы ПР-О, освоением и модернизацией все новых и новых систем вооружения. Вопреки усилиям своих имиджмейкеров НА-ТО в Р-оссии не восприни- мается как инструмент укрепления мира, безопасности и суверенитета.
Участие Р-оссии в «антитеррористичес-кой коалиции» наряду с США- и странами НА-ТО позволило получить ясное представление о различии многих коренных интересов ее участников. Широкий спектр этих интересов включает в себя как укрепление собственной внутренней стабильности и вертикали власти, так и закрепление своего присутствия в стратегически важных районах мира. К этому добавляется желание стать привилегированным партнером сверхдержавы, получить льготы и преференции при вступлении в НА-ТО, опереться на солидарность западных союзников в своих отношениях с Р-оссией и т. д. Все это сделало вполне очевидным наличие весьма серьезных конфликтов и разногласий между борцами с терроризмом, в том числе и внутри НА-ТО.
Как бы мы ни характеризовали формирующийся сегодня на наших глазах мировой порядок – «гегемонистская стабильность», «плюралистическая однополярность», «мультиполярный» или «многополюсный» мир ясно, что в нем нет абсолютной, прочной гегемонии ни одной, даже такой великой и мощной, как США-, державы. Всемирная история недвусмысленно показывает, чем именно рано или поздно заканчиваются попытки утвердить свое монопольное доминирование в международных делах. Итоги холодной войны, крах биполярного мира и весь опыт ХХ в. свидетельствуют, что сам по себе ни экономический, ни тем более военный потенциал, поддерживаемый на уровне паритета едва ли не с большей частью остального мира, не может обеспечить гарантии международной стабильности, жизнеспособность военно-политических союзов и даже сохранения собственной территориальной целостности. Нет никаких убедительных доказательств того, что США-, не надорвавшись, первыми в истории успешно и окончательно решат эту задачу.
Все международные системы, построенные на балансе сил, а именно так выстраивается мировой порядок с любым количеством «полюсов силы», видоизменяются (или рушатся) вследствие нарушения этого баланса. Соглашаясь с Г. Киссинджером в том, что система баланса сил не является универсальной и единс- твенной формой международных отно-шений1, нельзя не согласиться и с тем, что «по сути своей система равновесия сил не в состоянии полностью удовлетворить каждого из членов международного сообщества»2. Это ведет к регулярной перестройке конфигурации данной системы, соответствующей изменению соотношения сил ее участников. Важнейшей особенностью процесса распределения власти согласно силе является периодическая проба этих сил, сталкивающихся в конфликтном противоборстве на мировой арене.
Сегодня трудно даже приблизительно обозначить издержки и выгоды противоборства США- с государством «Х» или с международным союзом «У», которые рано или поздно вытеснят их с места мирового лидера. Можно лишь помечтать о том, чтобы грядущий конфликт не закончился вооруженным столкновением и самоликвидацией человечества. С учетом опыта завершения холодной войны осуществление этого пожелания представляется вполне вероятным. Но очень бы хотелось, чтобы в грядущих международных конфликтах, обусловленных сменой нынешнего мирового порядка и сопутствующих установления нового, наша страна оказалась среди победителей. Для этого надо не только тщательно взвесить выгоды и преимущества своего будущего международного положения, но и оплатить их минимально возможной ценой.
Не случайно современная ситуация на международной арене, намечающиеся тенденции ее изменения внушают тревогу государственным деятелям самых разных стран, побуждают их искать пути, гарантирующие независимое и благополучное существование своих государств. Важную роль в обеспечении подобных гарантий продолжает играть сила, в том числе военная. В условиях вполне отчетливо обозначившегося кризиса режима нераспространения ядерного оружия все больше государств демонстрируют свою готовность получить и ядерные гарантии своей безопасности. Можно по-разному оценивать проявление этих симптомов в КНДР-, Иране или Японии, но является фактом установленная МА-ГА-ТЭ техноло- гическая способность трех десятков государств к тому, чтобы обзавестись ядер-ными боеприпасами. Конечно, от технологического потенциала до реального обладания ядерным оружием, а тем более до его использования дистанция громадная. Тем более что международное сообщество, многие политические организации и государственные деятели в разных странах препятствуют ее преодолению. Но «красные линии» в дипломатии, как известно, часто проводятся не столько по бумаге, сколько по воде. Факты свидетельствуют: число ядерных государств на планете неуклонно увеличивается, а риск получения и применения ядерного оружия экстремистскими организациями ни в коем случае не уменьшается.
На вопрос «Б-удет ли возрастать международная конфликтность по мере расширения числа государств – обладателей ядерного оружия?» исследователи, эксперты и аналитики отвечают по-разному. Одни, как либеральные демократы, обусловливающие наступление всеобщего мира победой демократии над тоталитаризмом и авторитаризмом в планетарном масштабе, склонны считаться с неизбежностью крупных международных конфликтов на пути к этой цели. Другие – полагающие себя реалистами в политике, вслед за крупным американским ученым К. Уолтцом, считают, что «вероятность возникновения серьезной войны между государствами, обладающими ядерным оружием, приближается к нулю» и более того: «Постепенное распространение ядерного оружия нужно скорее приветствовать, чем опасаться его»3.
Думается, что практика была бы в данном случае плохим критерием истинности. Но независимо от правильности ответа на поставленный вопрос уже сейчас ясно: международные конфликты (включая ядерные) между государствами неустранимы «в принципе» из-за наличия у каждого из них собственных сталкивающихся интересов. Далеко не каждый из этих конфликтов чреват глобальной ядерной войной, но вероятность двусторонних, локальных или региональных конфликтов между государствами с использованием ядерного оружия следует учитывать, вырабатывая долговремен- ную стратегию Р-оссии на мировой арене. Поскольку национальный потенциал сдерживания, порог использования ядер-ного оружия в международных конфликтах, подобных Индо-Пакистанскому или А-рабо-Израильскому, может оказаться или недостаточным, или легко обходимым, уже сейчас время ставить вопрос о многосторонних международных гарантиях ядерного ненападения. От готовности Р-оссии участвовать в предоставлении подобных гарантий во многом зависит ее место в формирующемся сегодня будущем мировом порядке.
Е-ще один, по своей сути древний, но по масштабам своего распространения небывалый вид международных конфликтов – это так называемые асимметричные конфликты. К ним относятся конфликты между государством и национально-освободительными, религиозными, сепаратистскими и другими радикально-политическими, по своей сути мятежническими, повстанческими движениями.
Сразу же после краха биполярного мира усилилась взаимосвязь международных конфликтов с «корпоративизацией» и «приватизацией» военной силы, включая военную технику, вооружение и другие средства вооруженной борьбы. Это явление не сводится ни к банальному воровству военачальников, ни к тому размаху, который приобретает «расползание» военного имущества, оружия, боеприпасов и т. д. Р-ечь идет о подрыве государственной монополии на легитимное использование насилия, о вооружении самого народа, то есть составляющих его этнических, конфессиональных, лингвополитических и, кажется, даже отдельных профессиональных общностей.
А-бхазо-грузинский, балканский, ливанский, карабахский и многие другие конфликты свидетельствуют о том, что военная сила является не только средством достижения и удержания власти, но и решения таких задач, как обеспечение национального равноправия, получения образования на родном языке, свободы выбора места жительства и т. д. Эта роль военной силы проявляется как в самих международных конфликтах, так и в подготовке к вооруженному противоборству во имя достижения частно-групповых целей. Р-ечь идет не о рутинной практике военного обучения населения, произ- водства или приобретения вооружений, а о все шире распространяющейся в современном мире подготовке к ведению войны между социальными общностями – вместе со «своим» или «чужим» государством или против каждого из них.
Сегодня не только «Хамас» и «Хезболах» одерживают победы в борьбе с израильским государством, имеющим многократно превосходящую их по боевой мощи армию, но и наши постсоветские соседи демонстрируют опасный рост приватизированной, не государственной военной силы. С ее помощью политические движения приобретают важные атрибуты государственности: территорию, население, инфраструктуру, армию, денежную систему и т. д. Нет весомых социальнополитических или международно-правовых оснований считать «несостоявшие-ся государства» на территории бывшего Советского Союза временными, быстро исчезающими образованиями. История дает примеры весьма длительного и устойчивого существования подобных образований. Их развитие, распад или легитимация неизбежно сопровождаются международными конфликтами. Б-орьба за национальную независимость и создание «своего собственного национального государства», за «самоопределение вплоть до отделения» не заканчивается ни с «годом А-фрики», ни с созданием двухсот пятидесятого или N-сотого государства на нашей планете. Ч-исло неправительственных политических движений и общественно-политических объединений, использующих вооруженное насилие для создания «собственного» государства, по-видимому, будет возрастать до тех пор, пока глобальный социум не выработает иных, чем сегодня, более эффективных форм своей политической организации и управления, учитывающих в том числе происходящие изменения в средствах и способах применения насилия.
Пока же инициатива принадлежит «проблемным» государствам. Некоторые подобные государства, а также милитаризированные общественно-политические движения стремятся получить современное оружие (включая ядерное и оружие массового поражения), с тем чтобы добившись признания своего суверенитета, уйти с периферии мировой политики. Это желание часто встречает пони- мание «состоявшихся» и даже «великих» держав, готовых передать им это оружие для получения дополнительных доходов, укрепления своего влияния в данном регионе, упрочения собственных позиций в конфликте с другими державами.
Е-ще один вид международных конфликтов, с которым в будущем придется столкнуться Р-оссии, и к реагированию на который наша страна, по-видимому, подготовлена меньше, чем ко всем остальным, – это конфликты, порожденные созданием и разработкой новых технологий. В конечном счете именно с ними будут связаны те столкновения экономических и политических интересов, которые обнаруживаясь уже сегодня, в будущем приобретут еще большее значение для мировой политики. Это технологии, связанные с замещением невосполнимых природных ресурсов, прежде всего нефти и газа, сокращением энергопотребления, промышленных и других выбросов, способствующих изменению климата, ухудшению экологической ситуации и т. п. Наряду с ростом международно-политического значения конкуренции в сфере создания и внедрения нанотехнологий, биотехнологий, технологий создания новых средств коммуникации и новых (как летальных, так и нелетальных) видов оружия, технологии, связанные с использованием, замещением и глубиной переработки «старых», «традиционных» ресурсов, приобретают растущий конфликтогенный потенциал.
Очаги конфликтов сосредотачиваются не только во взаимоотношениях производящих и потребляющих ресурсы и энергию стран. Они могут расширяться и затрагивать громадные людские массы. Одни из примеров – возможное сокращение производства (и соответственно удорожание) продуктов питания из-за внедрения в сельское хозяйство технологий выращивания сырья для биотоплива. Не впадая в истерическую панику относительно грядущего понижения спроса цены на нефть или потепление климата, нам следует начинать готовиться не только к первому, но и ко второму. О возможных масштабах потенциальных международных конфликтов, связанных с этим, свидетельствует, например, тот факт, что ни США-, ни Китай, ни Индия не участвуют в мерах, направленных на сокращение выброса тепличных газов, а последствия его дальнейшего роста представляют угрозу для жизни многих миллионов людей на всех континентах.
Исполнение роли великой державы предполагает не только права, но и обязанности. Сегодня в Р-оссии еще нет ясного понимания ее места в будущих международных конфликтах, их последствий для развития нашего общества. Своевременное осознание своих потребностей и интересов, выработка стратегий их реализации – непременное условие благоприятного для нашей страны исхода будущих международных конфликтов.
Список литературы Россия перед будущими международными конфликтами
- SIPRI. Yearbook. 2007. Stockholm. 2007
- Киссинджер Г. Дипломатия. М., 1997, стр. 9-20
- Там же, стр. 13
- Sagan Scott D., Waltz Kenneth N. The Spread of Nuclear Weapons: A Debate Renewed. N.Y.; L.: W.W. Norton and Company, 2002, p. 45-49