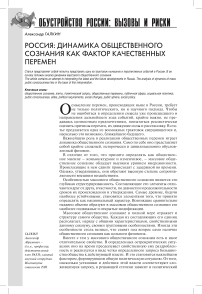Россия: динамика общественного сознания как фактор качественных перемен
Автор: Галкин Александр Абрамович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Обустройство России: вызовы и риски
Статья в выпуске: 4, 2012 года.
Бесплатный доступ
Статья представляет собой попытку представить одну из трактовок нынешних и перспективных событий в России. В ее основу положен анализ динамики массового общественного сознания.
Общественное сознание, элиты, политический запрос, общественные перемены, публичная сфера, социальная политика
Короткий адрес: https://sciup.org/170166345
IDR: 170166345
Текст научной статьи Россия: динамика общественного сознания как фактор качественных перемен
О
смысление перемен, происходящих ныне в России, требует не только политического, но и научного подхода. Чтобы не ошибиться в определении смысла уже происшедшего и
ГАЛКИН Александр
Абрамович – д.и.н., профессор, действительный член РАЕН; главный научный сотрудник Института социологии РАН
направления дальнейшего хода событий, крайне важно, не пре -даваясь ценностным предпочтениям, попытаться реалистически оценить причины перемен, их движущие силы и расстановку. В ста -тье предлагается одна из возможных трактовок свершившегося и, насколько это возможно, ближайшего будущего.
Важнейшую роль в реализации общественных перемен играет динамика общественного сознания. Само по себе оно представляет собой крайне сложный, исторически и цивилизационно обуслов ленный феномен.
В отличие от того, что принято определять как обществен -ное мнение — конъюнктурное и изменчивое, — массовое обще -ственное сознание обладает высоким уровнем инерционности. Происходящие в нем сдвиги происходят с задержкой во времени. Однако, утвердившись, они обретают высокую степень сопротивляемости внешним воздействиям.
Особенностью массового общественного сознания является его глубокая структурированность. Составляющие его элементы отли чаются друг от друга, в частности, по давности и продолжительности сроков их происхождения и утверждения. Самые древние, будучи наиболее устойчивыми, становятся элементами того, что принято определять как национальный характер. Возникшие сравнительно недавно обычно образуют в массовом общественном сознании его наиболее подвижные и открытые модификации.
Массовое общественное сознание в полной мере отражает и структуру самого общества. Каждая из составляющих его единиц располагает, наряду с общими характеристиками, свойственными данному социуму, своими групповыми особенностями. Иногда эти особенности столь велики, что ставят под вопрос само наличие общественного сознания как цельного феномена.
Вместе с тем у массового общественного сознания есть и иное отличительное свойство. В определенных острокритических ситу ациях оно на время преодолевает свойственную ему раздроблен ность и реализуется в виде четко определенного запроса большин ства общества к действующей власти. И это становится важнейшим фактором, формирующим общую политическую ситуацию. От того, насколько установки и действия этой власти соответствуют сло жившемуся запросу, в решающей степени зависит и политический капитал властных структур, и, в конечном счете, устойчивость самой политической системы.
До последнего времени нынешняя рос -сийская власть и ее политика представ ляли собой своего рода реакцию на специ-фический запрос общества, глубоко трав -мированного системным хаосом 90-х гг. Оно в своем подавляющем большинстве остро нуждалось в нормализации обста-новки, в наведении в стране относитель ного порядка и в обеспечении населению хотя бы минимальной безопасности.
Можно по-разному относиться к спо-собам и методам этой реакции. Однако нельзя не констатировать, что практиче ский ответ на запрос был дан. Другое дело, что в конечном итоге сложилась система, весьма уютная для богатых (вне зависимо -сти от того, каким образом приобретены их капиталы) и неуютная для большинства граждан. Тем не менее адекватная реакция на запрос до поры, до времени примиряла большинство граждан с властью. Так воз ник феномен, который многие не очень сведущие политические публицисты (а нередко и ученые политологи) самоуве ренно определяли как инертность, отста лость, а то и патерналистское вырождение народа.
Но время шло. В стране установилась, пусть, по мнению многих, ущербная, но все же стабильность. Заработали основ -ные, хотя далеко не идеальные эконо мические, правовые и экономические институты. Острота прежнего запроса на порядок и стабильность не исчезла. Любая действительная или мнимая угроза хаоса и потрясений придавала (и будет придавать) ему новую актуальность. Но первостепен ную роль этот запрос уже не играет.
На передний план выступили другие проблемы. В обществе стал созревать новый запрос к власти. Он еще оконча тельно не сложился. Однако его стержень уже очевиден. Это потребность в переме-нах. Не в косметических, а таких, которые бы трансформировали экономические и политические устои общественного орга низма.
Было бы неверным утверждать, что наверху совсем не замечали новых пове трий. Некоторые признаки готовности считаться с ними были. Однако в целом инерция прошлого оказалась сильнее. Между тем, отсутствие должной реакции на новый запрос стало стимулировать недовольство. И чем длительнее была задержка, тем большим оно становилось.
В ряде случаев недовольство приоб-ретало форму враждебности российской «глубинки» к столичным мегаполисам, и прежде всего к Москве. Почву, на которой произрастала эта враждебность, образо вывали, с одной стороны, разрыв в усло виях существования провинциального и столичного населения, а с другой — усиле-ние унитарных настроений в федеральных структурах власти, нашедшее проявление в попытках урезания прав и компетенций субъектов федерации.
Нарастание протестного потенциала реализовалось в од них случаях в виде демонстративного отстранения от поли тики и во враждебном отношении к существующим институтам власти как эгоистическим и авторитарным, в дру гих — в нарастающей тоске по прошлому, в - третьих — как готовность поддержать установление «сильной власти», ассоции-руемой с «сильным лидером».
Немалую роль сыграло и то, что недо вольство большинства общества не снималось с помощью гибких поли тических акций, а загонялось вглубь. Минимизировались возможности субли мации латентных политических установок в политические действия. Одним из наи-более очевидных проявлений этого стало сужение возможности использования электорального процесса, а в ряде случаев — и его выхолащивание.
Стержневую основу доминирующего массового сознания по прежнему образо вывали следующие установки:
-
— убеждение, что сложившаяся в стране политическая система отражает интересы лишь богатой части общества, игнорируя
потребности и запросы менее зажиточного большинства, и что, следовательно, любые исходящие от нее импульсы несут большинству главным образом потери;
-
— признание того, что крупная собствен -ность, появившаяся в стране в 90 - е гг. про -шлого века (и попавшая, прежде всего, в руки так называемых олигархов), — резуль -тат махинаций, нанесших неисчислимый урон обществу и государству;
-
— опасение, что в сложившихся условиях не приходится рассчитывать на создание (или хотя бы частичное восстановление) в стране такой системы социальных аморти-заторов, которая позволит каждому члену общества рассчитывать, что компенса цией за его позитивный трудовой вклад в общее дело ему будут гарантированы при емлемые условия существования на всех этапах жизни;
-
— устойчивое представление, что шансы простого гражданина на вертикальную социальную мобильность, несмотря на все его усилия, при нынешних обстоя тельствах минимальны и речь может идти лишь о его выживании;
-
— убеждение, что в обществе, в основе которого лежит совокупность правона рушений, право не может считаться регу лятором взаимоотношений между граж данами, и поэтому с ним можно не счи таться.
Затем ко всему прочему добавился кри-зис 2008—2009 гг. Он сделал еще более уязвимыми возникшие ранее социальные узлы:
-
— беспрецедентный для развитой страны уровень социальной дифференциации;
-
— устойчивую бедность, которая, даже по официальным данным, охватывает до 15% населения, а в действительности рас -пространяется примерно на треть рос сиян.
Вместе с тем остроту реакции, обуслов-ленной недовольством, существенно сни жали немаловажные обстоятельства.
Во первых, порожденная сравнительно недавним прошлым неприемлемость для большинства нынешних российских граждан насильственных действий, кото рые могли бы вызвать распад властных структур, анархию, вооруженное проти востояние социальных и национальных групп, стойкое убеждение в том, что такие действия не принесут с собой решение назревших проблем, но лишь существенно ухудшат условия существования.
Во - вторых, укоренившееся в сознании большинства граждан недоверие и к дру гим, ненасильственным формам давления на власть, в т.ч. через институты граждан ского общества. Объяснялось оно тем, что отчуждение между верхами и низами, став шее по ряду исторических причин неотъ емлемой составной частью общественной ситуации в России, распространилось не только на правящие верхи и выполняю щие их волю политические структуры, но и в значительной степени на институты гражданского общества, которые по тра диции рассматриваются как инструменты верхушечной политики.
Это представление то и дело подкрепля -лось самими институтами гражданского общества, которые, с одной стороны, нередко демонстрировали беспомощность и несостоятельность перед лицом правя -щих политических инстанций, а с другой — быстро приобретали негативные черты бюрократических структур власти.
На все это наложился прогрессирую -щий раскол в рядах немногочисленной, но весьма влиятельной властной элиты. Несколько упрощая, можно различить в ней две основные группы. С одной сто -роны, это группа радикальных либералов, отражающих интересы вновь сформиро вавшегося имущего класса, а с другой — выходцев из силовых структур, представ ляющих чаяния и установки служилых слоев общества (бюрократии). Первые до поры, до времени терпели вторых потому, что они гарантировали им спокойствие и порядок, вторые мирились с первыми потому, что те открывали им путь к нема лым материальным благам.
По мере исчерпания общественного богатства, служившего источником вза имного обогащения, и распыления поли тического капитала, которым первона чально располагало государственное руко водство, изначально подспудные разно гласия между обеими группами начали все очевиднее выступать на поверхность. А их внешним выражением стала ожесточив шаяся схватка за доступ к рычагам власти между теми, кто не хотел ими делиться, и желающими к ним приобщиться.
Чтобы убедиться в этом, достаточно вос-произвести в памяти личный состав фор мального и неформального руководства того, что именуется сейчас «несистемной оппозицией», и содержание лозунгов, которые она выдвигает.
У обеих элитных групп сложилась своя массовая социальная база. У первых — каста новых имущих, претендующих ныне на роль «креативного класса», кото -рые, видимо, предполагают, что «креатив-ность» (умственная мобильность, талант и интеллигентность) приобретается вместе с высоким доходом или умением вовремя приобрести или сбыть ценные бумаги. У вторых — не столько сторон -ники бюрократического произвола (хотя они тоже), сколько миллионы простых граждан, опасающихся «креативного реванша» в духе приснопамятных 90-х гг. прошлого века.
В декабре 2011 г. наглое усердие бюро -кратии, стремившейся любым путем услу-жить начальству, преподнесло радикаль ным либералам нежданно ценный подарок — циничные махинации с итогами выбо-ров в Государственную Думу. По мнению многих специалистов, степень фальсифи-каций на этих выборах была не большей, чем на предыдущих. Но она наложилась на созревшее высокое недоверие массы граждан к институтам власти. Отсюда осо-бенно высокий, особо эмоциональный всплеск негодования, который толкнул в объятия радикальных либералов десятки тысяч прежде нейтральных граждан, сведя тем самым вместе группы, отстаивающие заведомо несовместимые интересы. В митингах протеста, жестко оппонировав ших власти, приняли на первых порах уча -стие не только шеренги бывших высших чиновников нынешнего режима и новых имущих, но и колонны обиженных и оскорбленных образованных граждан.
Решающая схватка межу обеими силами в преддверии очередных выборов прези -дента республики, свидетелями которой все мы являлись, убедительно продемон стрировала действительные настроения, утвердившиеся в обществе, и действитель ные качества всех тех, кто претендовал на самый влиятельный пост в государстве.
Стала предельно очевидна и крайняя несостоятельность институциональных каналов, призванных транспортировать действительные настроения, доминирую щие в обществе, сублимируя их во власт ные полномочия.
Официальная (системная) оппозиция не нашла ничего лучшего, чем предло жить публике в качестве кандидатов в президенты засидевшихся на своих постах престарелых вождей, надоевших широкой публике, которая уже не раз проваливала их на прежних выборах. В свою очередь, деятели, претендовавшие на роль лидеров несистемной (уличной) оппозиции, мало интересуясь тем, чего хочет общество, и слушая только самих себя, почуяв маня щий запах вроде бы ставшей доступной власти, стали вести себя так, что многие почувствовали за их возгласами и ухмыл ками грозный оскал грозящей либераль ной диктатуры. И это, естественно, дало свои результаты.
Ряды демонстрантов, склонявшихся в их пользу, поредели. А основная масса граждан, опасавшихся такой перспек тивы, сдвинулась в сторону действующей власти, явно не желая менять «шило на мыло».
И если в начале февраля исход прези дентских выборов оставался неочевид ным, то к концу того же месяца лишь дилетанты, не отличающиеся высоким уровнем интеллекта, решались делать ставку на кого либо, кроме действовав шего премьер - министра. И 4 марта все это получило предельно ясное подтверж дение.
Но выборы прошли, а проблемы оста лись. Можно, разумеется, трактовать итоги этого голосования как угодно. Бесспорным остается то, что глубинное недовольство большинства населения положением дел в стране никуда не исчезло. Вызов обще -ства власти, сердцевину которого состав ляет ориентация на перемены, не только не испарился, но приобрел еще большую определенность и конкретность.
Сумеет ли новая власть, получившая мандат доверия на ближайшие годы, дать адекватный ответ на этот вызов — ска -зать пока трудно. Очевидно, однако, что попытки сдвинуться в этом направлении будут предприняты.
Можно даже очертить, правда, пока тео ретически, некоторые предварительные абрисы первых необходимых действий.
Для начала необходимы существенные кадровые перестановки. Чтобы нарастить уровень доверия общества к грядущим переменам и создать для них необходи мые предпосылки, надо, пожертвовав личными предпочтениями и симпатиями, избавиться от непопулярных министров и всех тех представителей высших эшело нов, на кого падает хотя бы малейшая тень подозрения в некомпетентности и внепра вовых действиях.
Чтобы лишить противников наиболее веских аргументов, надлежит незамедлительно представить обществу детально проработанную и финансово фундированную программу реализации предвыборных обязательств.
Ни в коем случае нельзя замедлять темп начатых политических реформ, призванных вд охнуть жизнь в существующие общественные и политические институты. Было бы неправильным в этой связи ограничиваться модернизацией избирательной системы или облегчением деятельности политических партий. Необходимы также целенаправленные усилия по созданию и активизации публичной сферы.
В общественной системе публичная сфера выступает не только в качестве площадки, на которой осуществляются контакты, сопоставляются позиции, заключаются компромиссы. Она представляет собой своего рода «плавильный котел», в котором индивидуальные и групповые интересы проходят сквозь огонь уточнений и апробаций, приобретая в итоге форму общественного публичного интереса.
Возникающий в результате этого сложного процесса «продукт» может рассматриваться как отлившаяся форма реакции отдельных граждан, гражданских институтов и общественного сознания в целом на характер и способы реализации общественно значимых решений. Тем самым, посредством переплетения горизонтальносетевых связей, существующих в рамках данной социально-культурной общности, смысловых значений и символов, сложившихся форм социальной солидарности происходит интеграция общества, гарантирующая историческую преемственность его развития.
Функционирование публичной сферы нередко путают с избирательными кампаниями, сопровождающими выборы в органы власти различного уровня. И действительно, налицо некоторое сходство. В ходе избирательных кампаний частично реализуется одна из функций публичной сферы – преобразование индивидуальных и групповых интересов и взглядов в нечто, имеющее основание рассматриваться как общественная позиция.
Однако различий гораздо больше. И дело не только в том, что избирательные кампании – феномен спорадический, в то время как отличительная черта публич- ной сферы – непрерывность. Оно также и в том, что в предвыборных кампаниях решается, причем со значительной долей риска, лишь один конкретный вопрос – о доверии к политической силе или индивиду, которым будут делегированы властные полномочия. Между тем, наличие действенной публичной сферы предполагает рассмотрение всех вопросов, представляющих интерес для каждой данной совокупности граждан.
Пути становления и развития публичной сферы различны. Она может складываться стихийно, без участия государственных институтов. В этом случае производимая ею «продукция» будет по определению в большей или меньшей степени односторонней и антисистемной. Поэтому опытные руководители предпочитают создавать для публичной сферы специализированную инфраструктуру. При этом они руководствуются не столько желанием получать от нее не урезанную информацию и взвешенные позитивные сигналы, сколько стремлением использовать процессы, происходящие в публичной сфере, в качестве средства «стравливания пара», накопившегося в обществе.
Некоторые из элементов этой инфраструктуры прошли многолетнюю обкатку и продемонстрировали свою высокую эффективность.
Это, например, создание сети крытых помещений типа клубов для свободного проведения общественных мероприятий. Это выделение в достаточно престижных местах особых территорий, где любые общественные организации, не запрещенные в судебном порядке, могут проводить свои митинги (так называемая система «гайд-парков», о которых недавно, кстати, вспомнил вновь избранный президент). Это формирование специализированных судебных органов, призванных обеспечить строгое соблюдение уведомительного принципа при проведении политических акций, и т.д.
В нашем случае в качестве специфической формы содействия развитию публичной сферы можно использовать преобразование жесткой властной вертикали, исчерпавшей свою роль как средство борьбы с региональным сепаратизмом, из административной в правовую.
Очевидно, что подобное преобразование предполагает, наряду с другими мерами, передачу в низовые структуры дополни- тельных финансово гарантированных функций. Тем самым огромное большин -ство административных решений, живо интересующих общественность (вопросы работы, жилья, транспорта, торговой сети, детских учреждений, первичного меди -цинского обслуживания, школьного обра зования), окажутся спущенными на тот уровень, на котором их можно не только обсуждать, но и решать силами непосред ственно общественности.
Теперь о том, чего ни в коем случае нельзя делать.
Не исключено, что в руководящих кругах страны, в случае если они столкнутся с оче-редными экономическими трудностями, может возникнуть соблазн прибегнуть к заимствованными извне рецептам, пред полагающим масштабную «экономию» на основе демонтажа социальных расходов. При решении этого вопроса крайне важно принимать во внимание то, что, в отли чие от Запада, где структуры социального обеспечения весьма солидны, у нас они едва покрывают, и то не полностью, лишь самые насущные нужды экономически и социально ущемленного большинства граждан. Там политика урезания соци альных расходов, вызывая заметное недо вольство, все же располагает неким, пусть небольшим, маневренным пространством. У нас такое урезание ударит по жизненно важным основам существования очень многих людей.
Стоит напомнить, что у нас в социаль-ной помощи нуждаются десятки миллио нов людей. Чуть ли не половина населения может быть отнесена, согласно принятой международной методике, к числу новых бедных, т.е. тех, кто, работая, получает заработную плату, не обеспечивающую нормальных условий существования им и их семьям. У нас насчитывается около 40 млн пенсионеров, большинство которых едва едва сводят концы с концами. Почти 10% граждан России составляют инва-лиды, в своем большинстве нуждающиеся в государственной поддержке.
Очевидно, что их реакция на уреза -ние социальных ассигнований была бы и быстрой, и жесткой.
Разумеется, не исключен сценарий, согласно которому ничего из названного выше сделано не будет. Он возможен в том случае, если новые власти воспримут выбор, сделанный избирателями 4 марта 2012 г., за безоговорочный карт - бланш доверия на многие годы. Тогда новой вла сти не позавидуешь. Но не позавидуешь и самой России.