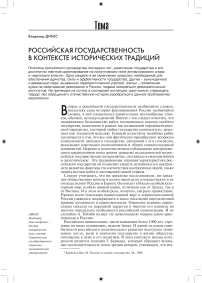Российская государственность в контексте исторических традиций
Бесплатный доступ
Политика российского руководства последних лет, укрепление государства и его достаточно жесткое доминирование на политическом поле активизировали споры о «вертикали власти». Одни увидели в ее укреплении средство, необходимое для обеспечения единства, силы и эффективности государства, другие - вынужденную и временную меру, вызванную террористической угрозой, третьи - проявление курса на свертывание демократии в России, подрыв неокрепших демократических институтов. Не претендуя на истину в последней инстанции, одно можно утверждать твердо: без обращения к отечественной истории разобраться в данной проблематике невозможно.
Короткий адрес: https://sciup.org/170169217
IDR: 170169217
Текст научной статьи Российская государственность в контексте исторических традиций
РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬВ КОНТЕКСТЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ
Политика российского руководства последних лет, укрепление государства и его достаточно жесткое доминирование на политическом поле активизировали споры о «вертикали власти». Одни увидели в ее укреплении средство, необходимое для обеспечения единства, силы и эффективности государства, другие – вынужденную и временную меру, вызванную террористической угрозой, третьи – проявление курса на свертывание демократии в России, подрыв неокрепших демократических институтов. Не претендуя на истину в последней инстанции, одно можно утверждать твердо: без обращения к отечественной истории разобраться в данной проблематике невозможно.
В опрос о российской государственности необычайно сложен, поскольку сама история формирования Р-оссии необычайно сложна, в ней соединилось удивительное многообразие этносов, обычаев, культур и религий. Вместе с тем следует отметить, что подавляющее большинство работ, посвященных анализу проблем государства, выполнено в рамках так называемой европоцентристской парадигмы, в которой любое государство соотносится с западным как эталонной моделью. Главный недостаток подобных работ заключается в том, что все они фактически пренебрегают вопросом уникальности западного государства, связанной с его генезисом, реальными властными полномочиями и общей социокультурной доминантой. Нередко в многочисленных публикациях воспроизводится традиционная точка зрения западных исследователей на российское государство как на неразвитое, отстающее в своем развитии и деспотическое1. Эта традиционная западная характеристика российского государства не позволяет увидеть источники его внутреннего развития, факторы его соответствия настроениям людей, также понять истоки побед и достижений нашей страны.
ДИНеС Владимир Александрович – доктор исторических наук, ректор Саратовского государственного социальноэкономического университета
Следует учитывать, что ни западные исследователи, ни западное общественное мнение в целом никогда не отождествляли и не отождествляют Р-оссию и Е-вропу. Они видят в Р-оссии особый культурный мир, особую цивилизацию, отличную как от Запада, так и от Востока. И в этом особую роль, конечно, сыграло православие. Прежде всего благодаря православной вере в дореволюционной Р-оссии удавалось поддерживать в массе населения определенный уровень духовности и нравственности. Огромное влияние православие оказало на народный характер и именно его влияние во многом определило особенности российской цивилизации. И не случайно А-. Тойнби назвал эту цивилизацию «православно-христианская в Р-оссии».
Р-оссийская цивилизация, насчитывающая более 1000 лет, строилась на иных основаниях, нежели Запад. И одной из основ самобытности российского политического развития выступало понимание места, роли и значения государства в жизни общества, отношение к нему и его политики. В этом контексте весьма интересной является позиция Г. Б-ермана, который обращает внимание на сомнительность точки зрения авторов, считающих, что воз- никновение государства на Западе происходило в русле, аналогичном другим культурам. В действительности, однако, существует несколько важных различий между возникновением государственноорганизованного сообщества на Западе и его возникновением в других культурах и эти различия не поддаются объяснению социологическими теориями К. Маркса и М. Вебера1.
Как справедливо отмечает Ю. Пивоваров, российское государство есть нечто в высшей степени специфическое и оно весьма «отличается от того, что мы привыкли называть государством»2. Поэтому понимание сути соотношения власти и общества в Р-оссии невозможно выразить в политических категориях, выражающих уникальный опыт западноевропейской цивилизации. В понятиях «российское общество», «российская власть», «российское государство» отражается собственный уникальный опыт Р-оссии, архетипы которой воспроизводятся в течение всей политической истории, вплоть до настоящего времени.
Для западной политической традиции всегда было характерно настороженное отношение к государству, стремление его всячески ограничить и поставить под действенный контроль со стороны тех или иных общественных сил. Данный подход четко выразил один из отцов-основателей США- Т. Пейн. «Общество, – писал он, – создается нашими потребностями, а правительство нашими пороками; первое способствует нашему счастью положительно, объединяя благие порывы, второе же отрицательно, обуздывая наши пороки; одно поощряет сближение, другое порождает рознь. Первое – это защитник, второе – каратель. Общество в любом своем состоянии есть благо, правительство и самое лучшее есть лишь необходимое зло, а в худшем случае – зло нестерпимое»3.
В Р-оссии понимание государства было совершенно иным. Государство в российской традиции определяется как высшая форма органичного развития культуры, вследствие чего отсутствует противопоставление общества и государства, так как государство выражает общую волю общественного организма. Понятие «государство» является ключевым для русского политического дискурса на протяжении всей истории Р-оссии. Причем его трактовка в каких-то частностях, естественно, менялась со временем, но понимание его уникальной роли для развития страны всегда было четким и ясным. Как утверждал В. Соловьев, «государство, выражая человеческую самостоятельность в общем, вместе с тем требует себе строгого подчинения частных сил. Так всегда было и будет, и вся разница только в свойстве и образе этого подчинения»4. И вообще русская философская и социально-политическая мысль много сделала для доказательства бесплодности спора о том, что должно быть первичной самодовлеющей ценностью – политическое целое (государство) или отдельная личность.
В рамках российской парадигмы активное участие гражданина в делах государства на основе собственного выбора, самостоятельно принимаемых решений и самостоятельно совершаемых поступков и действий ошибочно квалифицировать как служение государству. Гражданин вступает в сферу политики и действует в ней не по причине услужения государству, не ради заработка, а поскольку ясно сознает, что без его соответствующих личных усилий не возникнут и не упрочатся демократические институты публичной власти, не установится правовой порядок. Такое отношение складывается потому, в частности, что основано на понимании гражданином природы и задач государства вообще. Государственность как адекватная форма социального общежития в этом контексте находится прямо вне критики. Государство в этом смысле уже не только ограждение, но и строительство, формирующая живая идея. Иными словами, задача государства не исчерпывается охранением безопасности, она связана с утверждением общественного благосостояния. «Цель государства, – подчеркивал С. Франк, – столь же универсальна, всеедина, к ак цель общества вообще»5.
В указанное понимание государства основной вклад внесли мыслители консервативного направления. По К. Леонтьеву, характерными особенностями русской политической почвы были следующие: наличие духовно-нравственного идеала Р-уси (простота, свежесть, простодушие, прямота в верованиях народа); преобладание духовного начала над личным и муниципальным (прикрепленность народа к роду, а не к месту, идентичность удельной аристократии с первобытным патрициатом), эгалитарность российского вечевого начала, не имевшего сильного централизованного элемента; подчиненность аристократического начала царскому вследствие влияния византийских идей изнутри и враждебных интервенций извне. Возникший из родового быта русский наследственный царизм окреп и развился под влиянием византийской идеи. Он был в Р-оссии «единственным организующим началом», символом государственного и национального единства. Поэтому «с какой бы стороны мы ни взглянули на великорусскую жизнь и государство, – писал К. Леонтьев, – мы увидим, что византизм, то есть Церковь и царь прямо или косвенно, но во всяком случае глубоко проникают в самые недра нашего общественного организма»1. Вместе с тем, по его мнению, Р-оссия, создав великое государство, не нашла в себе пока «своеобразного стиля культурной государственности». В Р-оссии государство по существу есть государство и право европейское, где европейниченье стало болезнью русской жизни, искажением народного быта, культуры, заменой их форм чуждыми, иностранными, где внутренние и внешние отношения рассматриваются через европейские очки.
Исследователи уже давно отмечают особую роль государства в истории Р-оссии. С самого начала она возникла как страна, где интересы государства были важнее доминирующих национальных групп, классов, сословий, династических интересов и т. д. Р-оль государства по отношению ко всем сферам общественной жизни оказалась в дореволюционной Р-оссии исключительно велика. Е-ще более она возросла в советский период истории Р-оссии, когда партийно-государствен- ный аппарат попытался поставить под свой контроль практически все стороны общественной и личной жизни. Во взаимодействии общества и государства главную роль всегда играло государство. Все наиболее значимые преобразования и перестройки инициировались именно им, а общество лишь мобилизуется на реализацию очередного общественного проекта. Несмотря на то, что сама государственная власть испытывала «слабости», переживала кризисы, отношения между государством и обществом существенно никогда не менялись.
В российском государстве присутствуют как бы две стороны. Одна сторона государства – стихийно-фактическая (его историческая роль и значение, правовое самосознание населения), другая – деятельно-волевая (институты власти, все то, что сформировалось в результате сознательной деятельности человека). Определяющим для них является государственная идея, которая выступает источником власти и которая рождается в народном сознании и оформляется в правящем слое. Идее договорного начала, таким образом, российская мысль противопоставила идею органического развития культуры, вершиной которой выступает государство. Другими словами, российское историческое понимание государства есть форма специфического естественно-органического этатизма.
По мнению Ю. Пивоварова и А-. Фурсова, русский мир всегда был властецентричен, в нем власть являлась условием существования всех и всего. Этот социальный порядок они назвали «русской системой», а к его основным элементам отнесли власть и популяцию. Под популяцией они понимают население, которое утратило субъектные характеристики и чья субъектность при нормальном функционировании власти отрицается по определению. Р-усская система предполагает такой тип взаимодействия элементов, при котором единственно социально значимым субъектом всегда оказывается власть.
Другое органическое качество русской власти – дистанционность. В Р-оссии в отличие от Запада власть не есть порождение и политическое выражение гражданского общества. Власть в Р-оссии порождает и формирует все, действуя со стороны, с «дистанции». Она отделена и отдалена от этого «всего». Сближение с ним опасно для ее природы и функцио-нирования1. Именно поэтому Р-оссия и Запад суть две разные системы, у истоков которых один исторический субъект – христианский.
Государство в Р-оссии всегда мыслилось как персоноцентристское, когда правители поглощают политическое целое, воплощая собой его основные параметры. И поэтому самодержавие в консервативной традиции рассматривается как форма правления, которая в наибольшей степени отражает природу государства. Моноцентрическая модель государства, так же, как полицентрическая, является порождением своего времени, конкретных обстоятельств. И в ее рамках разделение властей не является определяющей характеристикой дееспособности государства, сама по себе концентрация власти в едином центре или фигуре правителя не препятствует развитию государства и общества.
В Р-оссии всегда существовали (и существуют сейчас) патерналистские отношения между гражданами и властью, когда государство предстает в роли «отца», хозяина, а гражданин – в качестве подопечного, просителя. Из совокупности именно этих отношений и вырастает политическая традиция персонификации власти, связывание всех назначений и преобразований с именем вождя, лидера. Вероятно, это вообще характерно для стран, где активная роль принадлежит монарху, вождю, политическому лидеру или государству как таковому, осуществляющим контроль над обществом.
Соответственно идея сильного государства, как никогда, актуальна сегодня. Р-оссийская государственность оказалась значительно ослабленной в результате попыток реализовать радикально-либеральные реформы 1990-х годов и поэтому восстановление сильного, дееспособного государства является основным приоритетом для страны. Но при этом должно произойти осознание зависимости прав и свобод граждан от конкретно-исторических условий, степени развития правосознания и этики, а также приоритетов интересов целого (государства, общества)
перед интересами части (индивида, социального слоя, политической партии).
Иными словами, должно произойти осознание того, что в современном мире Р-оссия реально может существовать только как высокоцентрализованное национальное государство, как государство, характеризующееся высокой степенью институционализации, как государство, возглавляемое национально и стратегически ориентированной властной элитой. Этот императив определяется тем, что глобализация как политико-экономический феномен позднего капитализма ослабляет национальное измерение вообще и государство-нацию в частности. Восстановление сильного государства будет проходить в неблагоприятных международных условиях, которые могут усиливаться неблагоприятными факторами внутреннего порядка. Усиливающие свои позиции транснациональные акторы, действующие по всему миру и не признающие границ, все в большей степени подрывают способность национального государства обеспечивать благосостояние граждан, во всяком случае частично лишают его традиционных структур и технологий управления и контроля. Указанные проблемы чрезвычайно актуальны для современной Р-оссии, поскольку ослабление государственных структур, активное лоббирование олигархическими структурами своих узкогрупповых интересов, идущих часто вразрез с национальными, выражены достаточно ясно.
Вызовы глобализации вместе с тем не означают неизбежный упадок национальной государственности. Как отмечает С. Перегудов, современное государство не сдало свои позиции глобализации, не исчезла и его способность управления экономикой. Но изменились формы этого управления, следовательно, и стратегия государства, поэтому и новая роль государства в глобализирующейся экономике не должна оцениваться как уменьшающаяся либо вообще исчезающаяся – просто она меняется. Возможность государства вносить позитивный вклад в экономическое развитие определяется отнюдь не только его силой, а способностью создавать и поддерживать «сетевые структуры», в рамках которых оно совместно с частными групповыми интересами вырабатывает и реализует эффективную, согласованную и целенаправленную систему управления экономикой внутри и вне государственных границ1.
В свете изложенного выше довольно часто раздающийся призыв защищать общество от власти фактически означает в современных условиях защищать общество от самого себя. Или иначе: мы опять здесь сталкиваемся с тем, что признавая особую роль государства в Р-оссии, тем не менее пытаемся его понять при помощи моделей и социокультурных практик государства западного.
Порядок, установившийся в современной Р-оссии благодаря политике В. Путина, является по большому счету достижением, поскольку в девяностые годы была утрачена социальная солидарность в обществе и в силу ряда причин начался процесс не социальной дифференциации, а прогрессирующего социального распада. В сложившихся условиях главной инструментальной социально-политической идеей государства становится идея консолидации общества.
Таким образом, российская историческая мысль пыталась создать модель государства, основанную на национальной традиции, в которой не играет большой роли форма политической организации власти, но обязательным условием выступает принцип соответствия народным идеалам как прошлого, так и настоящего. Поэтому в современное время необходимо достичь в обществе ценностное согласие на основе нравственных, социальных, политических и других ценностей, которые разделяются основной массой населения. Р-ечь должна идти не о новом варианте претворения в жизнь идей «общественного договора», а о заботе государства о практической реализации конституционных прав граждан (и одновременно универсальных ценностей) на жизнь, труд, охрану здоровья, личную безопасность, благосостояние, образование, свободу, собственность, справедливость и личное достоинство каждого.