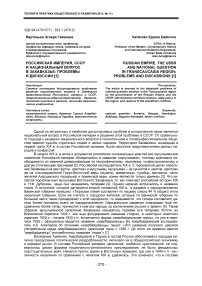Российская империя, СССР и национальный вопрос в Закавказье: проблемы и дискуссии
Автор: Вартаньян Эгнара Гайковна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 11, 2013 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена дискутируемым проблемам решения национального вопроса в Закавказье правительством Российской империи и СССР, территориально-административному делению, политике властей в регионе, причинам межэтнических конфликтов.
Национальный вопрос, армения, грузия, азербайджан, абхазия, нагорный карабах, межэтнические конфликты
Короткий адрес: https://sciup.org/14934945
IDR: 14934945 | УДК: 94
Текст научной статьи Российская империя, СССР и национальный вопрос в Закавказье: проблемы и дискуссии
Одной из актуальных и наиболее дискутируемых проблем в исторической науке является национальный вопрос в Российской империи и решение этой проблемы в СССР. От правильного подхода к решению национального вопроса в полиэтничном и поликонфессиональном обществе зависят судьбы отдельных людей и целых народов. Территория Закавказья, вошедшая в первой трети ХIХ в. в состав Российской империи, была населена представителями разных народов и конфессий.
В начале ХIХ в. в актах и документах российских колониальных властей все мусульманское население Российской империи объединялось в название «мусульмане», поэтому возникала необходимость их именной диверсификации по географическому, языковому, конфессиональному и другим отличающим признакам [2]. Российский исследователь ХIХ в. С. Броневской делил население Закавказья на две группы: христиан и мусульман, мусульман – на суннитов и шиитов, христиан же на «последователей Греко-Восточной веры (грузины, имеретинцы, гурийцы, мингрелы, часть жителей Ахалцихского пашалыка) и Армянской веры, коими являются только армяне» [3]. Что касается тюркоязычных мусульман Восточного Закавказья, то, как отмечает российский историк ХIХ в. Н.Ф. Дубровин, чаще они назывались татарами [4]. Однако нередко встречалось и название тюрки. В источнике, который датируется второй половиной ХIХ в., в разделе о народонаселении Бакинской губернии написано: «Тюркское племя составляет по нашему списку 44 % общего итога населения губернии. Если же считать и городских жителей, которые по Бакинской губернии по большей части также принадлежат к этой народности, то оказывается, что татары составляют далеко более половины всего ее народонаселения. Официальные сведения показывают еще несравненно более татар, причисляя к ним все народы за исключением русских и армян» [5]. Таким образом, мусульманское население Закавказья называлось тюрками или татарами. Кстати, во Всесоюзной переписи 1926 г. все еще фигурировало название «тюрки», в некоторых советских изданиях 1920-х – начала 1930-х гг. встречается форма «азербайджанские тюрки», но уже в переписи 1939 г. официально вводится название «азербайджанцы» [6]. Азербайджанский исследователь А.К. Алекперов об этнониме «азербайджанцы» пишет: «Это название получило широкое употребление среди азербайджанского населения лишь с 1936 г. До этого же времени вместо “азербайджанцы” употреблялось название “тюрки”» [7].
Вхождение Армении, Азербайджана и Грузии в состав России обеспечивало народам региона преодоление политической раздробленности, включало их в общероссийскую экономику и мировой рынок. В составе Российской империи население, особенно христианское, не подвергалось диким формам национально-религиозного преследования, не было феодальных опустошительных войн. Начался приток армян в Восточную Армению, где уже в 1840-х гг. численность населения по сравнению с началом XIX в. удвоилась. Это означало, что в составе российского государства были обеспечены физическое существование армянского и грузинского народов, их дальнейший численный рост, целостность, национальная консолидация.
Однако царское правительство стало проводить в Закавказье колониальную политику национального угнетения. Договор 1783 г. о протекторате создавал реальную возможность для усиления со стороны России тенденции к инкорпорации Восточной Грузии, что и осуществилось в 1801 г. с присоединением Картли-Кахетии к России. В 1801 г. была создана Грузинская губерния, Грузия была разделена на пять уездов: Горийский, Лорийский, Душетский (Карталиния) и Кахетия в составе Телавского и Сигнахского уездов. В те времена территории, на которые Грузия сегодня пытается распространить свой суверенитет (Абхазия и Южная Осетия), в ее состав не входили, как это пытаются доказать грузинские историки. Мегрелия вошла в состав Российской империи в 1803 г., Имеретия – в 1804 г., Гурийское княжество – в 1811 г. Абхазское княжество сохраняло свой суверенитет до окончания Кавказской войны. С 1864 по 1918 г. Абхазия напрямую управлялась российской администрацией. С 1883 г. Абхазия называлась Сухумским округом и делилась на Бзыбский, Абхазский (Сухумский), Абджуйский округа, Цебельдинское (с 1837 г.), Самурза-кандское (с 1840 г.), Джигетское (с 1840 г.) приставства [8]. В каждом уезде были основаны уездный суд и управа земской полиции. Гражданские дела разрешались, как правило, по Уложению Вахтанга VI. Правление делилось на четыре экспедиции (исполнительных дел, казенных и экономических, уголовных дел, гражданских дел) во главе с советниками. Правитель (с 1805 г. гражданский губернатор), начальники и советники экспедиций назначались из русских чиновников, которые и являлись членами Верховного грузинского правительства, возглавляемого главнокомандующим [9]. Багратиды фактически лишились власти, несмотря на то, что в Георгиевском трактате 1783 г. было оговорено сохранение их династии «беспрерывно». Из пределов Грузии были удалены члены царской семьи, чтобы избавить страну от внутренних неурядиц [10].
После Русско-иранской войны 1804–1813 гг. в состав России вошла часть территории современного Азербайджана: Казахское, Борчалинское и Шамшадильское султанства. Власть здесь находилась в руках военных комендантов. В бывшем Талышском ханстве существовало областное управление, составленное из офицеров русской армии.
В 1822 г. указом от 24 июня Кавказская губерния была переименована в область. Ханства постепенно ликвидировались и заменялись провинциями, округами и дистанциями. Сразу после заключения Туркманчайского договора 1828 г. царское правительство приступило к ликвидации ханской административной системы в Восточной Армении. В марте 1828 г. была образована Армянская область, включавшая Эриванский, Нахичеванский уезды и Ордубадский округ. Областное управление, возглавляемое царскими чиновниками, ведало хозяйственными, административными и судебно-уголовными делами. За 1829–1841 гг. Кавказская область была разделена на следующие части: «1. Собственно Грузия. 2. Пять ее татарских [азербайджанских] дистанций (Борчалинская, Казахская, Шамшадинская, Памбакская, Шурагельская). 3. Семь провинций: Карабахская, Шекинская, Ширванская, Бакинская, Кубинская, Дербентская и Ахалцих-ская. 4. Четыре области: Имеретия, Мингрелия, Гурия, Армянская. 5. Ханство Талышское. 6. Земли разных горских народов вдоль Главного Кавказского хребта и земля Джарского вольного общества, из которой была образована Джаро-Белоканская область. Под надзором русских властей управлялись собственными владетелями Абхазия и Сванетия, а в Дагестане шам-хальство Тарковское и ханства Казикумухское, Аварское и Мехтулинское» [11].
В 1849 г. после ряда новых административных реформ, преследовавших цель укрепить царскую власть на Кавказе, в числе других была создана Эриванская губерния, состоявшая из Эриванского, Нахичеванского, Александропольского, Норбаязетского и Ордубадокого уездов. Остальные районы Восточной Армении были включены в Тифлисскую и Елизаветпольскую губернии. Это административное деление в основном сохранилось до 1917 г.
Русское правительство принимало меры для колонизации Закавказья в процессе его завоевания. Подати и повинности не были отменены. Самовластие главнокомандующих фактически было неограниченным. Отсутствие законности выражалось в том, что «податный хлеб был собираем местными начальниками в излишестве, и сей излишек оставляли для себя. <…> Денежные подати, с них собираемые, теми же начальниками в казну вносимы не были, и казна, считая их в недоимке, взыскивала в другой раз <…> местные начальники собственно для себя производили с жителей разные сборы <…> все эти злоупотребления существовали в продолжении 30 лет. Жители не могли жаловаться на тягость произвольных налогов <…> местные начальники в Закавказском крае были более образцом нарушения законов, нежели блюстителями их…» [12]. Факты, свидетельствующие об утверждении в Закавказье политики национального угнетения, шедшей в русле колониальной политики царизма, неоспоримы. В этом смысле серьезных противоречий в исторических исследованиях представителей разных национальных исторических школ нет.
Царизм всячески защищал интересы местных помещиков, расширял их права, укрепляя свою социально-классовую опору на местах. Был издан ряд законов, усиливающих зависимость крестьян от землевладельцев. Следствием тяжелой эксплуатации были крестьянские волнения. Царизм пытался обуздать крестьян путем усиления административного аппарата.
В 1833 г. был создан «Комитет об устройстве Закавказского края», фактически он был наместничеством. В соответствии с решением Государственного совета от 28 июня 1833 г. «О правилах для управления Армянскою областию», она была разделена на четыре округа: Эриванский, Шарурский, Сардарапатский и Мурмалинский. Все управление и судопроизводство там осуществляли русские гражданские и военные чиновники [13]. Представители коренных народов Закавказья на государственную службу не допускались. Только в Грузии на государственную службу допускались представители княжеских или дворянских фамилий.
Постановление Государственного совета Российской империи от 13 мая 1833 г. о преобразовании системы управления в Закавказье было нацелено на то, чтобы ввести на территории «природное русское дворянство», которое «одно в состоянии составить верный надзор, политическую и гражданскую связь между Россией и Закавказским краем», призывало «раздать все конфискованные имения и земли <…> природным русским дворянам»; учредить дворянство в мусульманских и армянских провинциях, так как «дворянство есть необходимая принадлежность самодержавного государства» [14].
Переселение из внутренних губерний России сектантов, крестьян в Закавказье преследовало цель приглушить классовые противоречия в центральных губерниях. Вместе с тем, обеспечив колонистов землей, царизм пытался противопоставить их коренному населению, но колонисты не стали надежной опорой властей. Несмотря на покровительственную политику, они тоже подвергались социальному гнету и влились в общий поток борцов против царизма.
Антицаристские настроения усиливало закрытие царским правительством школ в национальных окраинах, надзор над печатью. Например, в 1885 г. было закрыто много армянских школ и произошли столкновения между населением и полицией [15].
Колониальная политика царизма в Закавказье порождала среди местного населения недоверие. Даже некоторые видные представители класса феодалов выступали в качестве инициаторов и организаторов антиправительственных движений [16]. Во второй четверти ХIХ в. борьба горцев Дагестана, Чечни, Северного и Западного Кавказа против царизма принимала массовый и все более угрожающий характер, особенно под знаменем мюридизма.
В экономической жизни Закавказья вместе с тем происходили определенные сдвиги, в 1860–1870-е гг. заметно оживилась внутренняя и внешняя торговля, развивались товарноденежные отношения. Развитию капиталистических отношений на Кавказе в значительной мере способствовал русский капитал. В пореформенную эпоху российский капитализм втягивал Кавказ в мировое товарное обращение, нивелировал там остатки патриархальной замкнутости. В экономику страны постепенно проникал и иностранный (английский, французский, немецкий, голландский) капитал, появилась нефтяная, меднорудная промышленность, предприятия по переработке хлопка, производству кожи, вин, коньяка и др. Эти процессы приводили к расслоению среди крестьян, росту городского населения. Осуществлялось дорожное строительство. В 1860–1870-х гг. были реконструированы и сооружены шоссейные дороги Тбилиси-Караклис-Ереван, Ереван-Джульфа, Александрополь-Кохб-Нахичеван-Горис. В 1883 г. начала работать железная дорога Баку – Тбилиси – Батум, а в 1899 г. – Тбилиси-Александрополь-Карс.
Основу политики советского правительства в национальном вопросе составляли ленинские принципы, ориентированные на равенство, дружбу народов, интернационализм, право наций на самоопределение. Поддерживая право каждого народа на образование своего национально-самостоятельного государства, большевики выступали против безусловности требования независимости. Ошибки, допущенные советским руководством при определении границ национальных образований, привели впоследствии к стремлению их изменить и к межэтническим конфликтам. Таким образом, противоречивые оценки исследователей в вопросе национальной политики правительства СССР связаны, в первую очередь, с перекройкой границ республик Закавказья в 1920-е гг.
В советском Закавказье противоречия политики, направленной на поддержание и (там, где их не было) конструирование этнических границ, видны особенно рельефно. Три относительно небольшие республики разделили между собой «титульные нации», доминирующие в регионе. В момент формирования независимых республик, пришедшие к власти национальные элиты всех трех закавказских государств, столкнулись со схожими проблемами. В ходе нацие-строительства им пришлось создавать национальные столицы из Баку и Тифлиса – имперских городских центров с превалирующим не азербайджанским и не грузинским населением. Небольшой городок Ереван в качестве столицы был выбран по причине того, что Александро-поль заняли турки, старые столицы Армении остались в пределах Западной Армении, то есть в составе Турции, и город-столицу Армении еще предстояло построить. Окончательному решению пограничных споров мешали трудности установления границы с Турцией, равно как и конфликты между самими закавказскими республиками. Бóльшая часть жителей Закавказья про- живала в сельской местности, и в основе их самоидентификации лежали религия (особенно для азербайджанцев) и локальная идентичность.
Большевики были настроены на быстрые перемены. В первые годы реализации советского национального проекта был решен вопрос межреспубликанских границ. Местные на-ционал-большевики активно участвовали в процессе их установления. Территориальные споры 1918–1920 гг. были так же актуальны для местных элит, примкнувших к коммунистам, как и для «буржуазных националистов» (мусаватистов в Азербайджане, дашнаков в Армении и меньшевиков в Грузии).
ХХ в. стал веком испытаний для армянского народа. По Брест-Литовскому (1918 г.) и Карсскому (1920 г.) договорам к Турции отошли армянские уезды и области Сурмалу, Карс, Ардаган. В результате различных территориальных манипуляций от Армении были отторгнуты и включены в состав новообразованной Азербайджанской ССР на правах автономии части исторического Ар-цаха-Карабаха и Нахичевань. По мнению ряда исследователей (это мнение трудно оспаривать) Азербайджан получил Нахичевань и Карабах по политическим соображениям. В то время как в Баку победили большевики, Армения все еще была меньшевистской. В ноябре 1920 г. Ревком Азербайджана признал Зангезур и Нахичевань частью советской Армении, предоставив Нагорному Карабаху право на самоопределение. Решением Кавказского бюро ЦК РКП(б) от 4 июля 1921 г. было принято решение оставить Нагорный Карабах в составе Армении, однако уже 5 июля 1921 г. Кавказское бюро ЦК РКП(б) окончательно постановило передать Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, в состав новообразованной Азербайджанской ССР [17].
29 ноября 1921 г. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло резолюцию о создании Закавказской Федерации. 12 марта 1922 г. полномочная конференция Центральных исполнительных комитетов Азербайджана, Грузии и Армении утвердила союзный договор, провозгласивший образование Федеративного Союза Советских Социалистических Республик Закавказья. Для дальнейшего упрочения хозяйственного и политического объединения закавказских республик стало необходимым преобразовать федеративный союз в единую федеративную республику (ЗСФСР), которая просуществовала до 1936 г., а в соответствии с новой Конституцией СССР была ликвидирована. 10 декабря 1922 г. в Баку собрался съезд Советов Закавказья. Был утвержден проект Конституции ЗСФСР и избран высший орган – Закавказский ЦИК. Закавказская федерация призвана была установить сотрудничество народов региона.
В 1923 г. на территории Закавказского края (без Шаумяновского и части Ханларского районов) была образована Автономная область Нагорный Карабах (НКАО). Таким образом, в составе Азербайджанской ССР были выделены две автономии – Автономная область Нагорного Карабаха (декрет от 7 июля 1923 г.) и Нахичеванская АССР (декрет от 9 февраля 1924 г.) [18].
Межэтнические конфликты в Нагорном Карабахе, Абхазии, Южной Осетии явились следствием национальной политики, проводимой советским руководством. Непрекращающиеся просьбы населения Нагорно-Карабахской автономии о переходе в состав Армении, так и не были услышаны правительством Советского Союза. Аналогичная ситуация складывалась в Абхазии и Южной Осетии, входивших в состав Грузии. Не желая мириться с повышением статуса автономий, грузинское правительство стало вести агрессивную политику по сохранению территориальной целостности государства.
ХII съезд РКП(б) в апреле 1923 г. дал четкие установки по вопросам проведения национальной политики. В его решениях ставилась задача скорейшей ликвидации хозяйственного и культурного неравенства между народами СССР. На съезде в качестве первоочередной задачи была выдвинута борьба с пережитками великодержавного шовинизма, буржуазного национализма. В резолюции ХII съезда РКП(б) по национальному вопросу говорилось о необходимости «проведения в национальных республиках политики коренизации, т.е. обеспечения в них приоритета национальных языков, широкого использования их в делопроизводстве, средствах массовой информации, культурно-просветительских учреждениях, первоочередного выдвижения на руководящие посты лиц коренной национальности, свободно владеющих своим родным языком» [19]. Становление национальных культур происходило под девизом «национальная по форме, социалистическая по содержанию». Коренизация способствовала формированию национального языка, национальной территории, национальной элиты и национальной культуры. В этой связи исследовательница Т. Варданян приводит интересные статистические данные (cм.: таблица 1):
Таблица 1 – Этнонациональный состав руководящей партии на 1930 г. [20]
|
Республика |
Общее число коммунистов |
Представители титульной нации |
Русские |
Количество других национальностей |
|
Азербайджан |
39 892 |
15 709 |
13 254 |
10 902 |
|
Грузия |
34 705 |
22 420 |
3 199 |
9 086 |
|
Армения |
12 279 |
10 941 |
393 |
945 |
По мнению Т. Варданян, наиболее высокими среди республик Закавказья, темпы корени-зации были в Азербайджане (+22,9 %), намного ниже в Грузии (+8,8 %). Что касается Армении, - 273 - то здесь наблюдается «уникальный случай в истории советской политики коренизации, когда на тот же период зафиксировано отрицательное сальдо (–7,5 %)». Это означает, что в Армении практиковался обратный процесс, то есть декоренизация именно тогда, когда по всему Советскому Союзу коренизация набирала стремительные обороты. Такое положение исследовательница объясняет как более моноэтничным составом Армении, так и советской политикой «уравниловки», когда отстающим народам следовало помогать в этнонациональном становлении, чтобы сокращать разницу в темпах развития с более развитыми соседями [21].
В каждой из республик Закавказья (как и в остальных советских национальных республиках) с разной степенью интенсивности происходила национализация сфер образования, культуры. Преподавание на местных языках стало официальной политикой. Политика ускоренной модернизации страны (индустриализация, урбанизация и так далее) привели к тому, что с 1938 г. русский язык стал обязательным предметом во всех нерусских школах. Но, несмотря на постепенное усиление позиций русского языка, национализация в области упрочения позиций национальных языков прижилась как раз в закавказских республиках. В публичной сфере Азербайджана, особенно в Баку, в сравнении с Грузией и Арменией, национальный язык в значительной степени уступал свои позиции русскому. Но до конца существования СССР азербайджанский оставался официальным языком республики и сохранил серьезные позиции в сфере культуры (образование, литература, национальный театр), а также в регионах за пределами столицы. Именно язык местные «буржуазные националисты», равно как и национал-большевики, считали основным маркером национальности наряду с исторической/национальной территорией.
Быстрота и эффективность национальной политики, проводимой советским правительством в области институционализации (территориальной и политической) союзных республик и автономий, а также идеи внедрения в массы представлений о нации как этнокультурном сообществе были весьма заметны. Если в 1920-е гг. жители сельских местностей Закавказья продолжали идентифицировать себя главным образом в категориях клана, племени, религии или места рождения, то в 1930-е гг. национальность стала фундаментальным маркером идентичности.
Необходимость объективного осмысления достижений страны предполагает критический анализ негативных явлений в развитии общества, такой критикой история страны лишь очищается от субъективных искажений и приукрашиваний. Национальные конфликты в союзных республиках СССР, переросшие в борьбу за независимость – классические образцы межнациональных конфликтов. Рост напряженности в межнациональных отношениях в СССР начинаются в конце 1980-х гг. Тогда же, в период перестройки, впервые стали подниматься вопросы реформирования федерального устройства СССР, направленного на демократизацию этих отношений. Межэтническая напряженность и конфликты стали одним из важных факторов, предопределивших распад СССР [22]. Например, в течение длительного периода существования НКАО армянское население автономии в рамках Конституции СССР пыталось добиться решения тлеющей и загнанной в тупик проблемы – воссоединения с Советской Арменией демократическим путем. И причиной этого устремления было ущемление социальных прав, духовных запросов, национального достоинства армянского населения, длившееся десятилетиями. Хотя проблема Нагорного Карабаха в официальных органах СССР поднималась многократно, для средств массовой информации она оставалась закрытой. Это соответствовало политике отсутствия гласности в годы застоя. О нарастающем напряжении в регионе стало известно не только местным, но и центральным органам власти уже в ноябре 1987 г. Однако средства массовой информации о них почти ничего не сообщали. И проблема эта нашла свое выражение в печально известных событиях погромов армянского населения в Азербайджане в 1988 г. Дальнейшее развитие событий в Нагорном Карабахе вновь подтвердило вековую истину: своевременно ненаказанное преступление неизбежно порождает новое, еще более жестокое. Отсутствовала информация о приеме делегации НКАО в ЦК КПСС и других руководящих органах страны, имевших место задолго до начала массовых митингов и демонстраций, о собраниях в трудовых коллективах, решениях сессий районных Советов народных депутатов и Пленумов райкомов партии НКАО. Не было опубликовано даже решение сессии областного Совета НКАО от 20 февраля 1988 г. с обращением к Верховным Советам Армянской ССР и Азербайджанской ССР. Вместе с тем, в те же дни была предоставлена полная свобода действий средствам массовой информации Азербайджана, в которых публиковались выступления представителей власти, интеллигенции по существу с призывами «к защите национального достоинства», фальсифицировались история и суть происходящих событий [23].
В период распада Советского Союза, путем референдума и согласно нормативным актам, была образована Нагорно-Карабахская Республика, однако власти Азербайджана не были готовы к суверенитету территории, входящей в его состав. Этнические споры привели к военному противостоянию в 1990-е гг., которое удалось прекратить путем подписания перемирия. Не смотря на сложившуюся ситуацию «ни войны, ни мира», сторонами так и не выработаны подходы для окончательного урегулирования конфликта. И в результате – не решенная до сих пор проблема Нагорного Карабаха, истоки которой нужно искать в ранней советской истории периода национального строительства.
К числу актуальных и дискутируемых проблем решения национального вопроса в Закавказье можно отнести и проблемы Абхазии, Южной Осетии. Эти проблемы были связаны с радикализацией национальной политики грузинского руководства, неспособностью сторон адекватно решать проблемы в условиях демонтажа советской системы и этнической мобилизации институционализировать государственно-правовые отношения. В результате грузино-абхазской войны 1992–1993 гг. образовалась Республика Абхазия. Августовская война 2008 г. в Южной Осетии и последовавшее за ней признание Российской Федерации независимости Абхазии и Южной Осетии явились переломным этапом в истории государственности этих закавказских народов. Эта проблема хорошо представлена в исследованиях К. Кудрявцева, О.Х. Бгажба, С.З. Лакоба, Т.М. Шамба, А.Ю. Непрошин, М.И. Зухба и другие [24].
Нельзя не согласиться с мнением известного отечественного исследователя В.А. Захарова о том, что в специфических условиях Кавказа история стала полем идеологических сражений, где явственно происходит столкновение национальных интересов. Рост этнического национализма и кризисные явления, затронувшие народы Кавказа, приводят не только к поискам так называемой национальной идеи, но и подкрепляются созданием этноцентристских исторических схем, которые провоцируют разъединение и напряженность между народами. Постоянные дискуссии на исторические темы стали не только типичными для историографии народов Кавказа, но и других регионов постсоветского пространства. В их основе продолжают оставаться «национально-патриотические побуждения» [25]. Эта борьба за исторические приоритеты приобрела в конце ХХ – начале ХХI в. острые идеологические и политические формы.
Можно констатировать, что регулирование межнациональных конфликтов – это сложный и долговременный процесс, граничащий с искусством и зачастую требующий существенных затрат ресурсов. Позитивный и негативный опыт Российской империи, СССР и РФ в решении национального вопроса свидетельствует о необходимости соблюдения правовых, конституционных норм взаимоотношений в полиэтничном обществе, освоения принципов конструктивного поведения в конфликте, основ межэтнической толерантности в ее практическом аспекте. В каждом государстве существует национальная правовая система, и она эффективна только в том случае, когда учитывает менталитет, культуру и правосознание народа.
Ссылки и примечания:
-
1. Статья написана при финансовой поддержке государства в лице Минобрнауки России в рамках реализации мероприятий ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. по теме «Политика России на Кавказе в прошлом и настоящем: документальная база, интерпретации и противодействие фальсификации истории» (Соглашение 14.B37.21.0966).
-
2. Только по официальным данным в начале ХХ в. на территории Российской империи проживало 15 млн мусульман (см.: Исхаков С.М. Мусульманская психология и европейская политика (первая четверть ХХ в.) // Революция и человек. М., 1996. С. 40.
-
3. Броневский С. Новейшие географические и исторические известия о Кавказе. Ч. 1. М., 1823. С. 27–29.
-
4. Дубровин Н. История войны и владычества русских на Кавказе. Т. 1. Кн. 2. СПб., 1871. С. 334.
-
5. Списки населенных мест Российской империи по Кавказскому краю, LХV. Бакинскская губерния, по сведениям с 1859 по 1864 г. Кавказским статистическим комитетом при главном управлении Наместника Кавказского / сост. Н. Зейдлиц. Тифлис, 1870. С. 85.
-
6. Яковлев Н. Языки и народы Кавказа: краткий обзор и классификация. Тифлис, 1930. С. 9; Сталин И.В. Марксизм и национально-колониальный вопрос. М., 1961. С. 265.
-
7. Алекперов А.К. Исследование по археологии и этнографии Азербайджана. Баку, 1960. С. 26.
-
8. Цыганок А. Исторические и правовые основания признания Южной Осетии и Абхазии. URL: publications/article 10592/htm (дата обращения: 02.05.2013).
-
9. Галоян Г.А. Россия и народы Закавказья. М., 1976. С. 123–124.
-
10. Хачапуридзе Г.В. К истории Грузии первой половины ХIХ в. Тбилиси, 1950. С. 63.
-
11. Эсадзе С. Историческая записка об управлении Кавказом. Т. I. Тифлис, 1907. С. 65.
-
12. Колониальная политика российского царизма в Азербайджане в 20–60-х гг. ХIХ в. Ч. I. М.; Л., 1936. С. 233–234. 13. Галоян Г.А. Россия и народы Закавказья. М., 1978. С. 188.
-
14. Колониальная политика … С. 280–294.
-
15. История Армении. URL: http:// krotov. Ifo/Ib_secI04__gLruzia_05.htm (дата обращения: 30.04.2013).
-
16. Смирнов Н.А. Политика России на Кавказе. М., 1958. С. 181–182.
-
17. Акопян Г. Вопросы вокруг советизации Нагорного Карабаха и решение Кавбюро // Нагорно-Карабахской Респуб
лике 20 лет (к годовщине провозглашения независимости). М., 2011. С. 50.
-
18. История Азербайджана. В 3-х т. Т. 3. Баку, 1963. С. 305–306.
-
19. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898–1971). 8-е изд. Т. 2. М., 1970. С. 433– 442.
-
20. Варданян Т. Азербайджанцы. История одного незавершенного этнопроекта. М., 2012. С. 44.
-
21. Там же. С. 46.
-
22. Толерантность и культура межнационального общения. Краснодар, 2009; Здравомыслов А.Г. Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве. М., 1997; Нарочницкая Е.А. Этнонациональные конфликты и их разрешение (политические теории и опыт Запада). М., 2000; Тагиров Э.Р., Тронова Л.С. Конфликты в обществе: от противостояния к согласию. Казань, 2003.
-
23. Карапетян Л.М. Правда истории и национальная политика. Ереван, 1991. С. 72.
-
24. Кудрявцев К. Сборник материалов по истории Абхазии. Сухум, 1992; Бгажба О.Х, Лакоба С.З. История Абхазии. С древнейших времен до наших дней. Сухум, 2007; Шамба Т.М., Непрошин А.Ю. Абхазия: правовые основы госу-
дарственности и суверенитета. М., 2004; Зухба М.И. Проблема независимости Абхазии: история и политика: авто-реф. дис. … канд. истор. наук. Краснодар, 2012.
-
25. Захаров В.А. Христианство в Кавказской Албании: по материалам рукописи полковника Ракинта «Краткий исторический очерк христианства кавказских горцев со времен Св. Апостолов до начала ХIХ столетия» и политическая ситуация на Южном Кавказе // Энаят Олла Реза. Азербайджан и Арран (Атурпатакан и Кавказская Албания). М., 2012. С. 144.