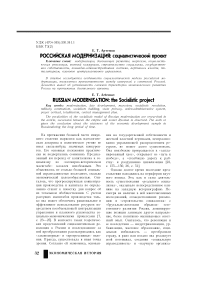Российская модернизация: социалистический проект
Автор: Артемов Евгений Тимофеевич
Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist
Рубрика: Модернизационные парадигмы в экономической истории России
Статья в выпуске: 2 (9), 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуются особенности социалистической модели российской модернизации, выявляется преемственность между имперской и советской Россией. Делается вывод об устойчивости сложной траектории экономического развития России на протяжении длительного времени
Модернизация, догоняющее развитие, марксизм, социалистическая революция, военный коммунизм, строительство социализма, государственная собственность, командно-административная система, вертикаль власти, тоталитаризм, плановое централизованное управление
Короткий адрес: https://sciup.org/14723535
IDR: 14723535 | УДК: (470+345):330.341.1
Текст научной статьи Российская модернизация: социалистический проект
The pecularities of the socialistic model of Russian modernization are researched in the article, succession between the empire and soviet Russian is observed. The auth or gives the conclusion about the stateness Russianduring the long period of time.
На протяжении большей части минувшего столетия марксизм как идеологическая доктрина и политическое учение не имел сколь-нибудь значимых конкурентов. Его основные положения практически не подвергались сомнению. Предсказанный им переход от капитализма к социализму во «всемирно-историческом масштабе» казался неизбежным. Это объяснялось не столько большей социальной справедливостью последнего, сколько экономической целесообразностью. Считалось, что прогрессирующая концентрация производства и капитала по определению ставит в повестку дня вопрос об их тотальном обобществлении. С учетом растущих масштабов производства только она может обеспечить рациональное и эффективное использование ресурсов посредством всеобъемлющей централизации управления и планового руководства социально-экономическими процессами [7, с. 23—25]. В контексте таких теоретических представлений социалистическая революция в России и последовавшие за ней преобразования рассматривались как «закономерные» и «прогрессивные» явления. Правда, существовала и иная точка зрения. Согласно ей экономика, основан- of the economic development sample in ная на государственной собственности и жесткой властной вертикали, централизованно управляющей распределением ресурсов, не может долго существовать. Она неизбежно превращается в «запланированный хаос», открывает не «путь к свободе», а «столбовую дорогу к рабству» и разрушению цивилизации [23, с. 155—156; 36, с. 51].
Однако долгое время последние представления находились на периферии научного поиска. Это, как и сама длительность существования «реального социализма», оказывало непосредственное влияние на западную историографию. Несмотря на наличие в ней многочисленных исследований, отождествлявших революцию и «строительство социализма» с «брутально-жестоким обрывом» естественного развития России, доминирующие позиции занимало другое направление, более позитивно оценивающее советский опыт. Считалось, что революция и ее последствия — индустриализация, урбанизация, массовое образование, социальная мобильность — преобразили страну, и рано или поздно она реализует свой потенциал, соединив «социальную справедливость» и «научную организа- цию производства» с «капиталистической эффективностью» [22, с. 16—20].
В свете таких оценок коллапс политико-экономической конструкции Советского Союза оказался полной неожиданностью не только для отечественных, но и для всех западных исследователей. В попытке объяснить произошедшее была востребована идея об изначальной нежизнеспособности советской системы. Теперь, как правило, утверждается, что она появилась в результате экстраординарной авантюры, ставшей возможной благодаря приходу к власти утопии. Ее главным интеллектуальным заблуждением является предположение, что сознательное регулирование (принуждение) способно существенно увеличить эффективность социальной координации. На деле же «нет ничего более антисоциального, чем социализм». В моральной сфере он разрушает нормы поведения, которые необходимы для поддержания ткани общества. В политической сфере — неизбежно скатывается к тоталитаризму, уничтожает свободу и личную ответственность. В материальном отношении — создает непреодолимые препятствия для экономического расчета, что оборачивается дезорганизацией производства товаров и услуг. В области культуры, науки — сковывает творческие возможности, мешает усвоению новых моделей поведения, блокирует инновационные процессы [38, с. 153]. Отсюда делается вывод, что относительно долгое существование реального социализма не отменяет главного. Его появление в лице Советского Союза, других социалистических стран было отклонением от универсальных форм и способов общественного развития. Он базировался на неустойчивой по «своей природе» экономической основе. Вопрос всегда «стоял лишь о том, когда и как она, советская система, рухнет» [6, с. 19]. Есть и ответ, почему крах не наступил гораздо раньше. Дело, оказывается, в огромных ресурсах, которые удалось задействовать в социалистическом эксперименте, жесткости режима и в пособничестве Запада. Импорт высококачественного современного капитала оттуда «служил становым хребтом сталинской экономической системы». Без него социалистическая организация производства не просуществовала бы и одной пятилетки [26, с. 36]. Позднее стабилизирующую роль сыграл экспорт топливно-энергетических ресурсов. Имеется и иное объяснение причин краха социалистического проекта, все больше распространяющееся сегодня. Оно отрицает саму идею «неработоспособности» советской экономической системы. Ее плачевный финал объясняется либо не тем выбором направления развития, сделанном на каком-то этапе истории советского общества, либо неразумной политикой, подорвавшей устои «великой динамично развивающейся страны». Особо подчеркивается роль геополитических противников России, инициировавших деструктивные процессы посредством внешнего давления и тайных операций [30, с. 347—349].
Несмотря на различия этих точек зрения, в них есть и нечто общее: акцентирование внимания на конечном результате «социалистического эксперимента». Но его трагический финал еще не означает, что Россия «потеряла» XX столетие в погоне за утопией либо по каким-то иным причинам. По крайней мере, чтобы так утверждать, нужно оценить, как вписывалось ее развитие в мировую динамику, способствовал ли «социалистический проект» модернизации страны, соответствовал ли он логике долгосрочных изменений, или «реальный социализм» сводился лишь к декларациям и риторике, имевшим косвенное отношение к реальной жизни. В той или иной мере эти проблемы затрагиваются практически во всех исследованиях, посвященных российской истории XX в. Тем не менее они далеки от решения. Во многом это объясняется недостаточным вниманием к процессам трансформации российского общества в длительной исторической ретроспективе. В частности, нуждается в прояснении ряд вопросов: о случайности или предопределенности выбора социалистического пути, о наличии альтернатив в его рамках, о преемственности советской и имперской модели модернизации. Думается, их комплексный анализ имеет принципиальное значение для реконструкции взаимосвязи исторических событий.
Прежде всего нужно отметить, что ключевой проблемой, которую Россия решала в прошлом столетии, являлось ее отставание от западных стран в уровне экономического и институционального развития. Впервые правящая элита ощутила это еще в XVII в. Отсталость была воспринята как угроза самому ее существованию, что явилось побудительным мотивом для масштабных преобразований. Они охватили систему административного управления, военное дело, просвещение, производство отдельных видом продукции, предназначенных в основном для государственных нужд, и даже частную жизнь высших классов. В результате заметно повысилась устойчивость социальной организации и координации, а страна добилась статуса империи и заняла место в числе мировых держав. Но существовала и оборотная сторона преобразований. По существу они были направлены на укрепление базовых структурообразующих оснований российской государственности, которые как раз и ограничивали динамизм развития общества [4, с. 11 — 18; 1, с. 53—66].
В то же время, начиная с рубежа XV III—XIX вв., страны Западной Европы и Северной Америки последовательно вошли в полосу так называемого современного экономического роста. Производство подушевого продукта стало увеличиваться в них устойчивыми темпами, многократно превосходящими соответствующие показатели в остальном мире. Одновременно в общественной жизни происходили глубокие социальные и духовные изменения, которые в свою очередь стимулировали повышение эффективности экономики. В России же подобные процессы начали наблюдаться лишь в последней четверти XIX в. Подобное запазды вание, естественно, обернулось для нее новым витком отставания от «продвинутых» стран [5, с. 21, 278—281]. Так оценивали ситуацию практически все: от радикалов из революционно-демократического лагеря до представителей и защитников правящего режима. Между властью и оппозицией, охранителями и либералами, чиновниками и интеллектуалами сложился своеобразный консенсус о необходимости осуществления догоняющего варианта развития, следуя по пути, указанному европейскими странами. Правда, по вопросу, как это сделать, что считать первоочередным, — согласия не было. Бюрократия ориентировалась на внедрение западных технологий и принципов организации экономики. Оппозиционная интеллигенция же считала, что для их адекватного восприятия сначала нужно трансформировать (либо эволюционным, либо революционным путем) систему социально-институциональных отношений, выстроить их по западному подобию. Но представление теми и другими конечной цели — оказаться в кругу стран и народов, находящихся на «острие» социального и экономического прогресса — вполне совпадало [13, с. 347—348].
В практической деятельности правительство руководствовалось формулой: «развитая промышленность равняется государственной мощи». Главной заботой оно считало создание индустриальной базы, сопоставимой с западными образцами. Финансирование такой политики осуществлялось двумя основными способами. С одной стороны, широко привлекался иностранный капитал, импорт которого также способствовал освоению передовых западных технологий, с другой — в интересах внутреннего накопления разными способами сдерживалось непроизводственное потребление. Активно поощрялась частная инициатива. Однако ключевая роль в экономике отводилась государству. Оно не только выполняло функции регулятора хозяйственной жизни, но и выступало в качестве ведущего предпринимателя.
Во многом его усилиями уже к началу XX в. в стране появилась крупная промышленность, способная удовлетворять заметную часть инвестиционных потребностей экономики и запросов вооруженных сил. Благодаря активному железнодорожному строительству упрочилось межрегиональное хозяйственное взаимодействие. Удалось сделать важный шаг в заселении и освоении Сибири и Дальнего Востока. Позитивные сдвиги углубились в ходе нового витка экономического подъема, наблюдавшегося накануне Первой мировой войны. В его инициировании важную роль сыграли социальные завоевания первой русской революции. Они способствовали пусть скромному, но вполне осязаемому повышению жизненного уровня населения. Наряду с аграрной реформой это увеличило емкость внутреннего рынка, что положительно сказалось на российской промышленности. В ее развитии более весомую роль стала играть частная инициатива. Одновременно упрочились позиции отечественных предпринимателей в производственной и кредитно-финансовой сферах [10]. В сочетании с определенной либерализацией правящего режима, активным формированием институтов гражданского общества, ростом индивидуального и группового самосознания это создавало видимость скорого превращения России в «передовую» страну, мало чем отличающуюся от ее западноевропейских соседей.
Но такое впечатление было обманчиво. Вопреки ожиданиям стремительная индустриализация принципиально не изменила позиций России в мировом гео-экономическом и геополитическом раскладе сил. Сохранилась ее технико-технологическая зависимость от западных стран. Активный импорт капитала оттуда обернулся снижением самостоятельности при принятии значимых решений. В системе международного разделения труда страна по-прежнему выполняла функции поставщика сырья, что вело к неэквивалентному торговому обмену. Наряду с платежами по иностранным займам, это накладывало серьезные ограничения на внутренние накопления в интересах развития. Не лучше обстояло дело в военнополитической сфере. Отставание в технико-экономическом отношении от других держав, финансово-экономическая зависимость России предопределяли ее относительную слабость как ведущего игрока на европейской и мировой арене. Разочаровывающе выглядели и социально-политические последствия реформирования экономики. Надежды правящих кругов, что следование западным образцам в организации материальной жизни, подстегивание экономического роста автоматически снимет накопившиеся в обществе противоречия и укрепит режим, оказались весьма далеки от реальности. На прежние проблемы, связанные со своеобразием аграрного строя, наложились новые, порожденные бурным развитием капитализма. Они усугублялись архаичным государственным устройством, которое демонстрировало явную неспособность своевременно адаптироваться к стремительно меняющимся общественно-политическим и культурным запросам наиболее активной части населения. Все это, естественно, дискредитировало проводимую политику модернизации и ее главного субъекта в лице государства. Растущие оппозиционные силы видели причину в неадекватности существующего политического устройства стоящим перед страной задачам. Отсюда — радикализация общественных настроений. Начавшаяся мировая война сделала этот процесс необратимым. Неудачи на фронте, слабость военной экономики, тяготы и невзгоды повседневной жизни до предела обострили существующие в обществе противоречия. Ответственность за все это в массовом сознании возлагалась на правящий режим. Он потерял всякую поддержку и был сметен волной повсеместного недовольства.
Сложившейся ситуацией прежде всего воспользовалось наиболее радикальное крыло социалистического движения в лице большевиков, имевшее свое видение перспектив. Как «правоверные» марксисты они разделяли тезис о последовательной смене общественно-экономических формаций. По их убеждению капитализм уже изжил себя. Порожденное им противоречие между общественным характером производства и частнокапиталистической формой присвоения результатов труда превратилось в главный тормоз социального прогресса. Следовательно, переход к социализму в глобальном масштабе стал насущной задачей, которая может быть решена только посредством мировой революции. Она должна начаться в западных странах, где капитализм «перезрел», и продолжиться вплоть до победы во всемирном масштабе. Это автоматически решит проблему «отсталости» России. Однако нарастание нацио- нального кризиса в ходе мировой войны побудило большевиков внести определенные коррективы в свою схему. Социалистическая революция перестала связываться с ее началом в западных странах. Это объяснялось неравномерностью в развитии отдельных частей мировой капиталистической системы. Отсюда следовало, что в ней имеются «слабые звенья», где проще всего инициировать процесс непосредственного перехода к социализму. Именно таким звеном объявлялась Россия с ее экономическими проблемами, политическим противостоянием, культурной неоднородностью, социальными и национальными конфликтами. В. И. Ленин неоднократно подчеркивал, что в ней неизмеримо легче начать «пролетарскую» революцию, чем на Западе, но гораздо труднее ее завершить. Поэтому установление политической власти рабочего класса в России может и должно открыть эпоху мировой революции. В свою очередь, ее победа, помощь со стороны социалистической Европы гарантируют России «светлое будущее» [18, с. 10, 97, 252; 19, с. 306; 20, с. 47—48]. Такая логика рассуждений позволила большевикам взять курс на завоевание власти после крушения царского режима в феврале 1917 г. И его практическая реализация увенчалась полным успехом.
Но одно дело захватить власть, а другое — выстроить долгосрочную стратегию практических действий. Нужно было совместить теоретические представления с жизненными реалиями, идеалы социализма с интересами российской государственности, намечаемые социальные новации с традиционными общественными институтами, желаемые перспективы экономического развития со стартовыми условиями и т. д. Не случайно на решение этой задачи ушло более десяти лет. Но найденная тогда модель, по сути, задавала вектор, формы и механизмы развития страны до конца XX в. Первое, с чем столкнулись большевики на другой день после захвата власти — это «запаздывание» европейской революции. Все предсказания В. И. Ленина и других лидеров, что, «выступая теперь, мы будем иметь на своей стороне всю пролетарскую Ев- ропу», повисли в воздухе. Ситуация усугублялась нарастанием хаоса в стране и растущим сопротивлением большевистскому режиму. Выход, казалось, был найден в мобилизации всех сил для защиты «социалистического отечества» от внутренних и внешних врагов и в развертывании «строительства» социализма, не дожидаясь прямой помощи европейского пролетариата. Это строительство рассматривалось как целенаправленные действия по утверждению коммунистических общественных отношений через «диктатуру пролетариата» и посредством использования «специфических» методов «организованной работы» [2, с. 155]. Такая политика получила название военного коммунизма. Она была призвана подготовить страну к «окончательной» победе социализма, что по-прежнему связывалось с пролетарской революцией на Западе.
Военный коммунизм вводился не одномоментно. Как экономическая политика он сформировался в результате принятия отдельных решений. Тем не менее в совокупности они представляли собой достаточно стройную систему. Составными частями последней стали огосударствление промышленного производства и производственной инфраструктуры, натурализация хозяйства, насаждение потребительских коммун и бесплатное распределение материальных благ и услуг, безвозмездное изъятие прибавочного (да и значительной части необходимого) продукта в деревне, запрещение торговли, свертывание денежного обращения, уравниловка, всеобщая трудовая повинность и т. д. Хотя эти меры принимались как бы спонтанно, они целиком укладывались в марксистскую схему перехода к социализму. То же можно сказать о жесткой централизации системы социального управления, ключевой роли в ней «пролетарского государства». В понимании большевиков это означало утверждение абсолютной политической, военной и хозяйственной диктатуры. Ее главной целью являлось осуществление коммунистических преобразований. Решение же проблемы модернизации и повышения уровня развития производительных сил относилось в будущее. В конце Гражданской войны был разработан план ГОЭЛРО, реализация которого рассматривалась в качестве важного шага в данном направлении. Его предполагалось осуществлять посредством все тех же военно-коммунистических методов.
Однако эти планы вошли в жесткое противоречие со сложившейся в стране ситуацией. Тотальная хозяйственная разруха, массовое недовольство подавляющего большинства населения распределительными отношениями, катастрофическое падение жизненного уровня создали реальную угрозу власти большевиков, несмотря на их победу в Гражданской войне. Выход был найден во введении так называемой новой экономической политики, или НЭПа. Она означала легализацию многоукладности в народном хозяйстве, предусматривающую при сохранении «командных высот» в руках «рабоче-крестьянского государства», частичное восстановление товарно-денежных отношений, ограниченное допущение частного предпринимательства, стимулирование мелкотоварного производства в сельском хозяйстве. Таким образом намеревались снять накопившееся в обществе напряжение и добиться преодоления хозяйственной разрухи. Задачи перспективного экономического строительства на время потеряла свою актуальность.
Для объяснения причин столь радикальных перемен требовалась убедительная аргументация, и она была найдена. Военный коммунизм объявили отступлением от заранее намеченного плана, вызванным экстраординарными обстоятельствами. Как утверждал В. И. Ленин, он «был вынужден войной и разорением. Он не был и не мог быть отвечающей хозяйственным задачам пролетариата политикой. Он был временной мерой» [21, с. 220]. Это объяснение прочно утвердилось в советской историографии [8, с. 256—257], однако сегодня его мало кто разделяет. Большинство современных исследователей солидарны, что не столько трудности интервенции и Гражданской войны, сколько теоретические представления о возможности и необходимости непосредственного перехода к социализму обусловили введение военного коммуниз- ма [3, с. 83—84]. Однако остается вопрос, был ли нэп системной альтернативой военному коммунизму или он рассматривался как временная передышка [17, с. 176]. Есть мнение, что В. И. Ленин, партия с введением НЭПа связали «столбовую дорогу» к социализму со стоимостными формами организации экономической жизни: с торговлей, кредитно-финансовыми механизмами, рыночным ценообразованием, бюджетом и т. д. Действительно, при НЭПе все они получили право на существование. Однако нет никаких свидетельств, что Ленин в принципе отказался от необходимости уничтожения частной собственности и товарно-денежных отношений. Неизменной оставалась перспективная задача: мировая революция и победа социализма «во всемирно-историческом масштабе» как главное условие решения внутрироссийских противоречий. Никто не собирался поступаться и «диктатурой пролетариата». Ей по-прежнему отводилась ключевая роль в грядущих преобразованиях. То, что НЭП рассматривался как относительно длительный период — не меняло сути дела. «Всерьез и надолго», — говорил о нем Ленин. «Надолго, но не навсегда», — вторил ему Троцкий. Между ними не было никаких разногласий. Подобные взгляды доминировали в партии. Считалось естественным, что рано или поздно с достижением относительной политической, экономической и социальной стабильности, НЭП исчерпает себя, и все его «капиталистические» атрибуты будут отброшены.
Так, собственно, и произошло. Но когда решение вопроса, что делать дальше, перешло в практическую плоскость, внутри правящей элиты обнаружилось разномыслие. Ключевая проблема заключалась в определении путей строительства социализма и в изыскании необходимых для этого средств. Объективно их можно было взять из двух источников: внутренних — за счет мобилизации прибавочного продукта, снижения потребления, экспроприации оставшейся частной собственности (прежде всего в деревне), либо внешних — посредством импорта высококачественного капитала с Запада. Не вызывало, однако, сомнений, что вто- рой путь не реализуем без целенаправленной государственной поддержки со стороны высокоразвитых стран. Но при сохранении действовавших там порядков, на это трудно было рассчитывать. Капиталистические страны не желали вкладываться во враждебного и непредсказуемого партнера, каковым являлся для них Советский Союз. Поправить дело могла лишь мировая революция. Ее победа хотя бы в ряде ведущих стран обещала снять все препоны для оказания прямой помощи в деле строительства социализма. В соответствии с такой логикой СССР следовало сначала выполнить свою историческую миссию: разжечь затухший мировой революционный пожар. В конечном итоге он то и должен был решить «извечную» проблему «отсталости» России [27, с. 357—370].
Эту позицию отстаивало «левое» крыло партии. Его лидеры, по сути, продолжали разделять установки времен октябрьского переворота и введения военного коммунизма. Другие более сдержанно смотрели на перспективы мировой революции. Свое видение будущего они основывали не столько на постулатах марксизма, сколько на опыте строительства советского государства, борьбы за его выживание. Эти взгляды были оформлены в виде концепции «строительства социализма в одной стране». Его возможность связывалась с использованием завоеванной власти. По утверждению главного идеолога такой политики И. В. Сталина, правильное руководство есть необходимое и достаточное условие построения «полного социалистического общества в нашей стране, при сочувствии и поддержке пролетариев других стран, но без предварительной победы пролетарской революции в других странах». «Техническую отсталость» можно преодолеть, если собрать все силы, «организовать социалистическое производство» должным образом. Правда, одновременно заявлялось о приверженности принципу интернационализма. Под ним понималось, что страна «строящегося социализма» непременно станет «великим притягательным центром для рабочих всех стран» и тем самым выполнит миссию «базы мировой революции» [31, с. 142—152]. Но подобные «разъяснения» не меняли сути дела. Концепция «строительства социализма в одной стране» означала, что внутренние проблемы получают отныне безусловный приоритет. Она связала перспективы российской революции с укреплением «социалистического государства». Все остальное отходило на второй план. Мировая революция перестала быть сверхзадачей, с которой следовало сверять все практические действия. Она превратилась в средство, рассчитанное на упрочение экономического и политического могущества государства. Это действительно был пересмотр «всей точки зрения на социализм» сопоставимый по значению с ленинским выводом 1915 г. о возможности победы пролетарской революции первоначально в одной отдельной взятой стране.
Собственно, так квалифицировал новый курс его главный оппонент Л. Д. Троцкий. Он утверждал, что сталинская схема «самодовлеющего социалистического развития в технически и культурно отсталой стране» воплощает в себе все «пороки национальной ограниченности, дополненной провинциальным самомнением». Ее выдвижение свидетельствует о «неверии» в силу социализма, а реализация неминуемо ведет к «отречению от коммунизма». Жесткая критика сталинского курса основывалась на понимании переживаемой эпохи как некой «передышки». Утверждалось, что эту «передышку нужно всемерно использовать. Передышку нужно всемерно затянуть. Во время передышки нужно как можно дальше продвинуть социалистическое развитие вперед». Но нельзя «забывать, что дело идет именно о передышке, т. е. о более или менее длительном периоде между революцией 1917 года и ближайшей революцией в одной из крупных капиталистических стран...». И надо делать все возможное для приближения последней, «обеспечивая тем самым общую победу». В ее ожидании следует взять курс на ускоренную, планово осуществляемую индустриализацию, всемерно ограничивать мелкотоварное производство, обеспечить перекачку ресурсов из сельского хозяйства в промышленность [35, с. 145— 147].
Это была идеология интернационального революционаризма, не имевшая отношения к национальным интересам. Ее приверженцы рассматривали советское государства как временное явление, необходимое для мобилизации сил страны для мировой революции, организации в СССР ее материальной и политической базы. По существу, они призывали всех «трудящихся» мира въехать «в светлое будущее» на плечах русского мужика. Естественно, подобная доктрина была глубоко чужда большинству населения России. Поэтому закономерным итогом внутрипартийной борьбы стала безоговорочная победа сторонников «строительства социализма» в «отдельно взятой стране». Однако в литературе до сих пор активно дебатируется вопрос о предопределенности победы сталинского курса [29, с. 547—579]. Если говорить отвлеченно, то, видимо, нужно согласиться с утверждением, что «исторической неизбежности не бывает — альтернативы возможны всегда» [16, с. 15]. Но это не означает, что реально имелась иная «дорога к социализму», чем реализованная на практике. Меньше всего таковой можно считать ее версию, предложенную Л. Д. Троцким. Тем не менее еще недавно многие видели в ней вполне жизнеспособную альтернативу. Но даже те, кто признавал безусловную «историческую правоту» Л. Д. Троцкого, говорили, что она должна подтвердиться лишь «в конечном счете». Логика рассуждений была такова. В мировом масштабе прогресс означает движение к социализму. Но Россия на этом пути забежала вперед. «Вопиющая» экономическая и культурная отсталость не позволили ей после революции осуществить непосредственный переход к социализму. Вместо этого страна получила сталинский режим. Но победа сталинизма, во-первых, была временным явлением и, во-вторых, обеспечила проведение назревших социально-экономических преобразований. Она позволила добиться «огромного прогресса во всех областях», который в свою очередь «разрушал и размывал сталинизм изнутри». Через «на- сильственную модернизацию» он шел к гибели, создавая предпосылки для действительного социализма. Тому же способствовало нарастание коллективистских устремлений повсюду в мире. В совокупности они готовили почву для «возвращения классического марксизма». Раньше или позже это должно произойти в ходе развития предсказанного им мирового революционного процесса [11, с. 513— 526].
Однако чем дальше, тем больше подобные оценки и прогнозы расходились с жизненными реалиями. Это подвигло многих аналитиков и исследователей на поиски иной альтернативы сталинской модели устроения общества. Теперь она стала связываться с НЭПом, который будто бы открывал «более мирное, постепенное движение в направлении модернизации и социализма». Проводниками соответствующей политики назывались Н. И. Бухарин и его единомышленники. Утверждалось, что их позиция была экономически обоснована и находила широкий отклик в партии и стране. Однако узурпировавшему власть сталинскому аппарату удалось «насильственно подавить» бухаринскую альтернативу. Но ее поражение отнюдь не доказывает «абсолютной немозможности» соединения рыночных начал, социальной ориентации экономики и культурного либерализма с социалистическими принципами организации производства и власти. Более того, такая перспектива объявлялась неизбежной. Свидетельство этому искали в действиях таких «реформаторов», как Н. С. Хрущев и особенно М. С. Горбачев [16, с. 15—24]. Однако события конца ХХ в. наглядно показали, что попытки построить «рыночный социализм», «социализм с человеческим лицом» лишь расчищают дорогу для реставрации капиталистических отношений. Судя по всему, это хорошо понимали И. В. Сталин и его соратники. Они справедливо видели в «постепенности» социалистического строительства потенциальную угрозу абсолютной власти партии. Осознавалась и экономическая бесперспективность НЭПа. То, что он способствовал восстановлению народного хозяйства, не подвергалось со- мнению. Разочарование вызывало другое. «Причудливое» сочетание рыночных и административных принципов организации экономической жизни вело к непрерывным кризисам [9, с. 54—59]. Однако наибольшую озабоченность вызывала невозможность в условиях нэпа обеспечить необходимый уровень накопления [37, с. 76—77]. Не поступаясь властью, эти проблемы можно было решить лишь в рамках так называемой командно-административной системы. Иных вариантов просто не существовало, несмотря на продолжающиеся попытки представить нэп как реальную альтернативу сталинской политики [29, с. 479; 14, с. 208—281].
Она выкристаллизовалась в ходе так называемого сталинского Великого перелома. На первый взгляд он был «вторым изданием» военного коммунизма. Поэтому их отличия часто видят лишь в масштабах, интенсивности и степени организованности проводимых преобразований, главная цель которых — «доставка человечества в социализм» — оставалась неизменной [22, с. 244—245]. Думается, однако, что подобное утверждение было бы справедливо в случае победы «троцкистской» альтернативы. Но она не получила поддержки из-за пренебрежения национальными интересами. Им в гораздо большей степени соответствовала сталинская политика строительства социализма, сутью которой являлись преодоление технико-экономической отсталости страны и наращивание ее военно-политического могущества. В этом отношении прослеживается явная преемственность между имперской и советской моделями модернизации. В качестве подтверждения данного тезиса можно привести множество примеров. В частности, хорошо известно обоснование И. В. Сталиным необходимости ускоренного развития экономического потенциала страны, положенное в основу практической политики: «Мы отстали от передовых стран на 50— 100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут» [32, с. 362]. Он утверждал, что подобные попытки неоднократно предпринимались в прошлом начиная с Петра I. Но они оказались малопродук- тивными. «Старые классы» по определению не могли «разрешить задачу ликвидации отсталости нашей страны». Теперь же это возможно. У власти стоит пролетариат, «построивший свою диктатуру». Он вооружен пониманием «закономерностей» исторического процесса. Следовательно, социалистическое строительство позволяет догнать и перегнать капиталистические страны в технико-экономическом отношении [33, с. 248—249]. Бушевавшая в то время на Западе Великая депрессия, казалось, полностью подтверждала идеи классиков марксизма об исчерпании капитализмом потенциала развития. Отсюда легко делался вывод, что только использование социалистических принципов организации производства и общества открывают дорогу к экономическому прогрессу. Однако положения классического марксизма применялись «творчески», так, чтобы они могли работать на достижение реальных, а не декларируемых целей. Отсюда сохранение элементов товарно-денежных отношений, допущение частного мелкотоварного производства, отказ от уравнительности в распределении [34].
Социалистическая риторика не мешала большевикам использовать подходы, находившиеся в арсенале «капиталистических» модернизаторов. И те, и другие ставили знак равенства между форсированным наращиванием индустриального потенциала и коренными интересами страны. Последние отождествлялись с укреплением ее военно-политических возможностей и упрочением существующего строя. И в имперской, и в советской моделях модернизации ведущая роль отводилась государству. Хотя, конечно, большевистский режим пошел здесь гораздо дальше предшественника. Государство стало не просто заглавным, а чуть ли не единственным субъектом хозяйственной деятельности, вытеснило или подчинило все элементы гражданского общества. Определенное сходство наблюдалось и в выборе приоритетов экономического развития. Многие хозяйственные проекты, задуманные до революции, были реализованы в советское время. Можно также увидеть преемственность в «увлечении»
административными методами регулирования социальных процессов, в отношении к уровню жизни населения как к чему-то второстепенному и т. д. В этом нет ничего удивительного. В российском обществе, как и в любом другом, «правила игры» во многом определяются традициями социально-институциональной организации, особенностями национального самосознания, а они мало меняются во времени. Однако это не означает абсолютной статичности сущностных характеристик отдельных обществ. Время от времени они переживают трансформации, порождающие новые формы социальной организации и координации. Одновременно происходят «естественный отбор» и модификации базовых отношений, обычаев, моральных и правовых норм. Многие из них наполняются иным содержанием. В результате возникает новое видение «извечных» проблем, используются новые способы их решения. Поэтому конкретные черты советского варианта модернизации коренятся не столько в прошлом России, сколько в советской модели устроения общества. Последняя представляла собой целостное образование. Важную роль в его формировании сыграло экономическое и культурное наследие прежнего режима. Весомый вклад внесли и другие факторы: от доминирующих в интеллектуальном пространстве идей до личных качеств революционных вождей и политической обстановки в мире. В совокупности они сформировали «генетический код» советской системы, который и задавал вектор ее последующего развития [15, с. 397—401]. Другими словами, преемственность между имперской и советской Россией носила причинно-следственный характер. Первая в силу сложившихся обстоятельств, прежде всего внутреннего порядка, породила вторую, обладавшую собственной логикой развития. Ее философия отличалась явной оригинальностью. Желаемое будущее в ней виделось совсем иначе, чем это представляли себе дореволюционные модернизаторы.
Последние в качестве эталона, к которому нужно стремиться, брали современное им западное общество. Конечную цель они видели в создании подобного в
России. Отсюда их представления об идеальной конструкции будущего общественного устройства с такими его непременными атрибутами, как частная собственность и частное предпринимательство, рыночная координация деятельности хозяйственных единиц, развитие элементов гражданского общества, относительный идеологический плюрализм, конституционная организация власти. Это были не только устремления отдельных личностей, но и императивы имперской модели модернизации. Именно они задавали направления практических действий. Однако многие преобразования, основанные на зарубежном опыте, плохо сопрягались с российской действительностью. Тем не менее модернизаторы продолжали верить: если обществу привить культурные ценности, формы социально-политической организации и институты, заимствованные у «передовых наций», то «безоблачное будущее» стране гарантированно.
Совсем другие пути и способы развития предложила советская модель модернизации. Ее истоки также берут начало в западном политико-идеологическом наследии. Но в итоге сформированные в его рамках положения и подходы были адаптированы к российским реалиям. В результате безусловным императивом развития стало создание нового общественного устройства, более эффективного и справедливого, чем в западных странах. Отсюда лозунг не только «догнать», но и «перегнать» «исторических оппонентов». Подразумевалось, что другие народы, вдохновленные выдающимися успехами «первой страны социализма», пойдут проторенной ею дорогой. Иначе говоря, уже не Россия будет копировать чужие образцы. Теперь все должны учиться у Советского Союза делу строительства будущего. Этому верили не только лидеры и большинство населения страны, но и многие западные интеллектуалы. Подобные взгляды разделяли «широкие массы» практически повсюду в мире. Со временем, когда начальный импульс ослаб, а советское общество утратило динамизм, его опыт потерял былую притягательность. Но до последних дней советские лидеры утверждали, что будущее за от- стаиваемым ими вариантом развития, который отождествлялся со строительством коммунизма. В теории он рассматривался как строй, основанный на общественной собственности и общественном самоуправлении, создающий все условия для поступательного экономического прогресса, обеспечивающий полное благосостояние и свободное развитие каждому. Считалось, что советская система изначально имела все необходимое и достаточное, чтобы реализовать эти привлекательные принципы. Однако на деле ее отличительными чертами стали жесткая централизация социального управления, ограничение индивидуальной и групповой самоорганизации, отождествление общественной собственности с государственной, тотальное ограничение рыночных механизмов координации, ставка на преимущественно внеэкономические методы мотивации производственной деятельности и идеологическая унификация. Они задавались отнюдь не идеологическими предпочтениями и теоретическими построениями. Последние, конечно, играли роль в обосновании стратегического курса, в выборе средств его реализации, объяснении необходимости пересмотра и уточнения отдельных приоритетов. Однако исходным пунктом советской системы являлась конфигурация власти [15, с. 59]. Именно она определяла цели и направления развития страны. Но действия правящего режима вряд ли можно объяснить лишь эгоистическими интересами «номенклатуры». В соответствии с российскими традициями главную задачу он видел в укреплении и наращивании мощи советского государства как гаранта национальной безопасности. Остальным аспектам развития внимание уделялось по «остаточному» принципу. И это находило понимание в общественном сознании до тех пор, пока власть справлялась с решением сверхзадачи.
Если же говорить о результативности советской модели экономического развития, то трудно сделать однозначные выводы. В литературе имеются весьма различающиеся оценки. Это объясняется разницей в методологических подходах и методиках исследования, несовпадением мировоззренческих и политических предпоч- тений авторов. Но все же анализ экономической динамики России на фоне мирового развития позволяет сделать вывод, который трудно оспаривать. Во-первых, вступив в стадию современного экономического роста на полтора-два поколения (30—50 лет) позже стран континентальной Европы и Северной Америки, она устойчиво сохраняет эту дистанцию на протяжении полутора столетий. Во-вторых, для нашей страны характерна уникальная неравномерность темпов роста. В качестве подтверждения можно сослаться на имеющиеся данные о производстве ВВП на душу населения. В 1913 г. в Российской империи этот показатель составлял 25—30 % от уровня США, страны — лидера современного экономического роста. К концу 1920-х гг. он снизился до 20—25 %. 3 атем последовал бурный «взлет» советской индустриальной системы. Особенно результативными оказались 1950-е гг. К середине следующего десятилетия Советскому Союзу удалось выйти на уровень 40—45 % от подушевого производства ВВП в США. А потом разрыв вновь стал увеличиваться. Накануне распада Советского Союза этот показатель равнялся уже 35—40 %, а сегодня составляет те же 30 %, что и перед началом Первой мировой войны [24, с. 516; 25, с. 398—404]. Такая динамика часто дает основания утверждать, что страна «потеряла» XX столетие благодаря социалистическому эксперименту [12, с. 14—15]. Не лучших результатов ей удалось добиться и в более широком временном диапазоне. Перспективы также выглядят весьма скромно. По умеренно оптимистическому сценарию Россия в ближайшие два-три десятилетия должна сократить отставание от лидеров экономического роста до одного поколения (25—30 лет). В таком случае она выйдет на уровень середины 1960-х гг. Однако это будет более низкий показатель, если сравнивать с первыми десятилетиями XIX в. [5, с. 44; 28, с. 77]. Отсюда можно сделать вывод об устойчивости сложной траектории экономического развития России на протяжении длительного времени. И попытка реализации социалистического проекта здесь ничего принципиально не изменила.
Список литературы Российская модернизация: социалистический проект
- Алексеев, В. В. Волны российских модернизаций/В. В. Алексеев, И. В. Побережников//Опыт российских модернизаций XVIII-XX века. -М.: Наука, 2000. -С. 50-72.
- Бухарин, Н. И. Экономика переходного периода. Май 1920 г./Н. И. Бухарин//Проблемы теории и практики социализма. -М.: Политиздат, 1989. -С. 94-176.
- Васильев, Ю. А. Модернизация под красным флагом/Ю. А. Васильев. -М.: Соврем. тетради, 2006. -343 с.
- Вишневский, А. Г. Серп и рубль: Консервативная модернизация в СССР/А. Г. Вишневский. -М.: ОГИ, 1998. -432 с.
- Гайдар, Е. Т. Долгое время. Россия в мире: очерки экономической истории/Е. Т. Гайдар. -2-е изд. -М.: Дело, 2005. -656 с.
- Гайдар, Е. Т. Гибель империи. Уроки для современной России/Е. Т. Гайдар. -2-е изд., испр. и доп. -М.: РОССПЭН, 2007. -448 с.
- Гайдар, Е. Марксизм: между научной теорией и «светской религией» (либеральная апология)/Е. Гайдар, В. Мау//Вопр. экономики. -2004. -№ 5. -С. 4-27.
- Гладков, И. А. Военный коммунизм/И. А. Гладков//Экономическая энциклопедия. Политическая экономия. -М.: Советская энциклопедия, 1972. -Т. 1. -С. 256-257.
- Голанд, Ю. Неоконченый кризис/Ю. Голанд//Эксперт. -2009, 28 декабря -18 января. № 1. С. 54-59.
- Грегори, П. Экономический рост Российской империи (конец XIX -начало ХХ в.): Новые подсчеты и оценки/П. Грегори. -М.: РОССПЭН, 2003. -256 c.
- Дойчер, И. Троцкий. Изгнанный пророк. 1929-1940 гг./И. Дойчер. -М.: «Центрполиграф», 2006. -526 с.
- Илларионов, А. Как Россия потеряла ХХ столетие/А. Илларионов//Вопр. экономики. -2000. № 1. -С. 4-26.
- Кагарлицкий, Б. Периферийная империя: Россия и миросистема/Б. Кагарлицкий -М.: Ультра. Культура, 2004. -528 с.
- Кип, Дж. Эпоха Иосифа Сталина в России. Современная историография/Дж. Кип, А. Литвин. -М.: РОССПЭН, 2009. -328 с.
- Корнаи, Я. Социалистическая система. Политическая экономия социализма/Я. Корнаи. -М.: НП «Журнал Вопросы экономики», 2000. -672 с.
- Коэн, С. Бухарин. Политическая биография. 1888-1938/С. Коэн. -М.: Прогресс, Прогресс-Академия, 1992. -574 с.
- Кудров, В. М. Экономика России в мировом контексте/В. М. Кудров. -СПб.: Алетейя; М.: ГУ-ВШЭ, 2007. -735 с.
- Ленин, В. И. Полн. собр. соч./В. И. Ленин. 5-е изд. -М.: Изд. полит. литературы, 1969. -Т. 36. -741 с.
- Ленин, В. И. Полн. собр. соч./В. И. Ленин. 5-е изд. -М.: Изд. полит. литературы, 1969. -Т. 38. -579 с.
- Ленин, В. И. Полн. собр. соч./В. И. Ленин. 5-е изд. -М.: Изд. полит. литературы, 1970. -Т. 41. -695 с.
- Ленин, В. И. Полн. собр. соч./В. И. Ленин. 5-е изд. -М.: Изд. полит. литературы, 1970. -Т. 43. -561 с.
- Малиа, М. Советская трагедия: История социализма в России. 1917-1919/М. Малиа. -М.: РОССПЭН, 2002. -583 с.
- Мизес, Л. фон. Бюрократия. Запланированный хаос. Антикапиталистическая ментальность/Л. фон Мизес. -М.: Дело, Catallaxy, 1993. -240 с.
- Мировая экономика: глобальные тенденции за 100 лет/под ред. И. С. Королева. -М.: Юристъ, 2003. -604 с.
- Мировая экономика: прогноз до 2020 года/под ред. А. А. Дынкина; ИМЭМО РАН. -М.: Магистр, 2008. -429 с.
- Найшуль, В. Высшая и последняя стадия социализма/В. Найшуль//Погружение в трясину (анатомия застоя). -М.: Прогресс, 1991. -С. 31-62.
- Павлюченков, С. А. «Орден меченосцев»: Партия и власть после революции. 1917-1929/С. А. Павлюченков. -М.: Собрание, 2008. -463 с.
- Попов, В. Закат плановой экономики/В. Попов//Эксперт. -2009. -№ 1. -С. 74-79.
- Симония, Н. А. Существовала ли реальная альтернатива сталинской диктатуре?/Н. А. Симония//Историография сталинизма/Н. А. Симония. -М.: РОССПЭН, 2007. -С. 547-579.
- Симчера, В. М. Развитие экономики России за 100 лет: 1900-2000. Исторические ряды, вековые тренды, институциональные циклы/В. М. Симчера. -М.: Наука, 2006. -587 с.
- Сталин, И. В. К вопросам ленинизма/И. В. Сталин//Вопросы ленинизма. 11-е изд. -М.: Госполитиздат, 1952. -С. 122-152.
- Сталин, И. В. О задачах хозяйственников: Речь на первой Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности 4 февраля 1931 г./И. В. Сталин//Вопр. ленинизма. М.: Госполитиздат, 1953. С. 355-363.
- Сталин, И. В. Об индустриализации страны и о правом уклоне в ВКП(б): речь на пленуме ЦК ВКП(б) 19 ноября 1928 г./И. В. Сталин//Собр. соч. -М., 1949. -Т. 11. -С. 245-290.
- Сталин, И. В. Экономические проблемы социализма в СССР/И. В. Сталин. -М.: Госполитиздат, 1952. -95 с.
- Троцкий, Л. Д. Теория социализма в отдельной стране/Л. Д. Троцкий//Архив Троцкого. Коммунистическая оппозиция в СССР. 1923-1927. -М.: ТЕРРА-TERRA, 1990. -С. 132-156.
- Хайек, Ф. фон. Дорога к рабству/Ф. фон Хайек. -М.: Новое издательство, 2005. -264 с.
- Ханин, Г. И. Почему и когда погиб НЭП/Г. И. Ханин//ЭКО. № 10. 1989. № 10. С. 66-84.
- Хесус Уэрта де Сото. Социализм, экономический расчет и предпринимательская функция/Уэрта де Сото Хесус. -М.; Челябинск, Социум, 2008. -496 с.