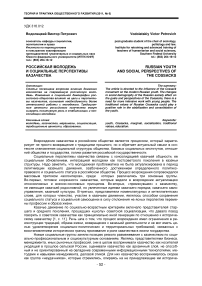Российская молодежь и социальные перспективы казачества
Автор: Водолацкий Виктор Петрович
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Социологические науки
Статья в выпуске: 6, 2011 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена вопросам влияния движения казачества на современную российскую молодежь. Изменения в социальной демографии российского общества влияют на цели и перспективы казачества, возникает необходимость более интенсивной работы с молодежью. Традиционные ценности российского казачества могут сыграть позитивную роль в стабилизации и консолидации молодежи.
Молодежь, казачество, маргиналы, социализация, традиционные ценности, образование
Короткий адрес: https://sciup.org/14933497
IDR: 14933497 | УДК: 316.012
Текст научной статьи Российская молодежь и социальные перспективы казачества
Возрождение казачества в российском обществе является процессом, который характеризует не просто возвращение к традициям прошлого, но и обретает актуальный смысл в контексте становления социальной структуры общества, базовых социальных институтов, отношений общества и государства, логики развития российской государственности.
Социальные перспективы казачества связаны с консолидацией казачьей общности, ее социальным обновлением, интеграцией молодежи как постсоветского поколения в казачьи структуры. Надо заметить, что молодежная проблематика не была актуализирована в период легитимации казачьего движения, озабоченного достижением определенного политикоправового и социального статуса в российском обществе. Процесс возрождения сопровождался массовым притоком «волонтеров», среди которых различались три основные группы. Во-первых, потомки «коренного» казачества, которые видели в возрождении актуализацию этносословных и военно-сословных принципов. Во-вторых, «примкнувшие» к казачеству, не имеющие казачьей родословной, но увлеченные идеями казачьего порядка, казачьего самоуправления, казачьей культуры. В-третьих, представители номенклатурных и интеллигентских слоев, для которых членство, участие в казачьем движении, являлось способом сохранения социального статуса и социальной самооценки в силу отклонения не ясных перспектив перемены профессии и образа жизни.
Казачье движение по социально-возрастным критериям включало представителей старшего и среднего поколения, прошедших «школу» советской социализации, что давало повод говорить о советском казачестве как принципиально иной генерации по отношению к историческому казачеству [1, с. 11]. Речь шла о том, что процесс возрождения имел ограничения в реконструкции традиций, образа жизни, возвращения к казачьей деятельности и не мог иметь целью удовлетворения социально-политических и территориальных требований, связанных с восстановлением исторических границ проживания и роли казачества в жизни государства.
Новые социальные группы заняли позицию резкого размежевания с казачеством по социально-профессиональным и социокультурным основаниям. Являясь представителями бизнеса, менеджмента, иных рыночных профессий, они в целом воспринимали казачество как носителей уходящей в прошлое сельской России, оценивали казачество как архаичный слой, не способный и не ориентированный на овладение современными информационными технологиями, методами и навыками менеджмента, деловой этикой. Для них казачество воспринималось скорее как группа «неудачников», которые стремились, опираясь на не принадлежащие им историче- ские заслуги, получить доступ к экономическим и властным ресурсам. В той же степени приверженность либеральным ценностям свободы, индивидуализма, успеха формировало образ казачества, как консервативной, патриархальной массы, как движение сопротивления социокультурной реформации.
Отношения с государством в означенный период можно назвать неустойчивыми и неопределенными: очевидно, что правящая элита, увлеченная переделом собственности и развалом советской государственной машины, не воспринимала казачество как потенциальный элитный слой, используя антисоветизм в настроениях большинства казаков, не ставило целью удовлетворение требований казачьей автономии и государственной службы.
Между тем, обострение социально-демографических процессов, старение населения, снижение социально-воспроизводственной роли молодежи выявилось в нарастании тенденции социальной изоляции, прекращения притока молодых людей в казачье движение и поставило вопрос о социальном воспроизводстве казачества. Не драматизируя этот момент, можно констатировать, что новое постсоветское поколение молодежи не испытывало интерес к казачьему прошлому, казачьему движению, казачьей культуре. Узость социальных интересов, не развитое историческое сознание, нигилизм в оценке социальных и нравственных ценностей стали мощными социокультурными барьерами на пути диалога казачества и молодежи.
Конечно, в этот период стала складываться система казачьего воспитания и образования, усилиями энтузиастов возрождаются семейные традиции. Тем не менее, справедливо полагая, что казачье движение не может быть «без границ», что должны существовать определенные механизмы социального и культурного «отбора» и «отсева», лидеры ощутили проблему сохранения казачьей общности путем интеграции молодежи. К тому же, понимая, что «не казачья» молодежь, вступая в период социальной и политической активности, становится «фактором» отношения общества к казачеству, обоснованным представлялось налаживание диалога, взаимодействия с молодежью, участие казачества в процессах социального взросления, социализации молодого поколения.
Необходимо отметить, что ориентация на традиционные способы несения военной и пограничной службы, использование принципов военного самоуправления казачества, построенных на опыте участия казачества в предшествующих войнах, не соответствуют нормам внедрения современных военных технологий и не связаны с целями эффективного использования человеческих ресурсов. Иначе говоря, военно-сословные стереотипы, исходящие из идеи военномобилизационного общества, слабо привлекают социально-энергичную, наиболее образованную молодежь, для которой в армейской службе важны возможности повышения собственного образовательного, профессионального, социально-мобильного ресурсов и удовлетворения до-стиженческих ценностей.
Существующая программа участия казачества в возрождении принципов общегражданского патриотизма [2, с. 108] является ориентирующей в диалоге казачества и молодежи, так как определяет в качестве условия деятельности казачьих структур актуализацию казачьей культуры, казачьих традиций как «идеальных, психологических механизмов» [3, с. 87] воспроизводства связи времен и поколений, институционализации гражданского патриотизма молодежи на основе «признанной традиции». Молодежь воспринимается как группа социального обновления, вносящая в общественную жизнь элементы нового. Поэтому, можно полагать, что борьба за «истинную» традицию, уходящую в прошлое, может привлечь молодых романтиков, но имеет две отрицательные стороны. Во-первых, придавая казачьим традициям «церемониальный» смысл, во-вторых, порождая «музейный» интерес к казачеству как свидетельству прошлого.
«Изобретенная» традиция являет переход на основе традиционности к принятию, легитимации новых элементов социальной и духовной жизни. Между тем казачье движение объективно использует символический ресурс для самоопределения в современной социальной структуре, в чем можно убедиться в отстаивании казачеством позиции «усиления влияния» в экономической сфере, местном самоуправлении, социальной жизни.
Таким образом, казачье движение подходит к той точке бифуркации развития, в которой обнаруживается путь становления гражданской структуры, которая, освободив традицию от этнической и сословной ограниченности, становится субъектом социального развития, объектив- но заинтересованном во взаимодействии с молодежью, в возведении мостов между поколениями россиян. Отметим, что продолжение процессов старения российского общества обретает социально-негативный смысл для будущего страны, что казачество может играть роль «катализатора» позитивных перемен в контексте социально-воспроизводственной функции молодежи.
Речь идет о том, что социальные интересы молодого поколения включают приоритеты социальной экологии, саморазвития, рекреации, культурно-исторического наследия. Казачество успешно участвует в реализации общенациональных программ на региональном уровне, но ощутимые результаты влияют в основном на жизнь старшего и среднего поколений, которые «живут» ценностями советского периода, для которых важными являются социальноэкономические и социальные проблемы (занятость, уровень зарплаты, цены, качество здравоохранения и образования). Запросы значительной массы населения ориентируются на социальную стабильность: российская молодежь не идентифицирует себя с переменами, с социальной модернизацией, так как является «группой для себя», не отождествляет собственные позиции и ресурсы с базовыми социальными и государственными институтами, не демонстрирует достаточной готовности к совместным социальным практикам.
Стремление политических партий привлечь молодежь, использовать как ресурс достижения собственных целей показывает скромные результаты. Несмотря на интенсивную финансовую, информационную, организационную поддержку, даже официальные молодежные структуры («Наши», «Молодая гвардия», «Местные») охватывают 5–7 % молодежи, которая участвует в массовых пиар-акциях, не имея определенных идеологических и организационных ориентиров. Казачество, не отягощенное грехами «политиканства», идеологических размежеваний, потенциально является центром притяжения интересов молодых россиян.
В контексте логики расширения влияния казачье движение экспансирует свою деятельность в молодежные сферы общественной жизни. Показательно в связи с этим, что движение за здоровый образ жизни, развитие мужественности, дисциплинированности, обязательности как желаемых социетальных качеств, совпадает с ориентациями молодежи, для которой достижен-чество ассоциируется с уходом от стандартов потребительского поведения, массовой культуры, влияния моды. Присущая казачеству динамическая тенденция к социальному воспроизводству предполагает консолидацию казачества (реестрового и нереестрового) на основе сохранения единого социокультурного пространства, что требует совместных практик с молодежью.
Возникающее недоверие к социальным институтам имеет основание не только в их социальной неэффективности, но и в том, что молодежь социально разобщена, является поколением индивидуалистов. Казачество, которое объединяет людей по коллективистским критериям, в большей степени, чем традиционные структуры (армия, церковь, семья), может демонстрировать молодежи путь поиска интегрирующих ценностей, так как свободно от жестких идеологических и организационных скреп, даже совершением ошибок и выявлением разногласий, показывает живой характер, возможность различных позиций и оценок. В условиях, когда рушатся, деформируются многие прежние ценности и ориентации казачество представляется молодежи теми, кто сохранил верность традиции, кто стремится к реализации социальных и моральных добродетелей, практически не наблюдаемых не в одной из групп в обществе.
Если элитные слои отделены от молодежи социальным высокомерием, базовые – отталкивают «унылыми» стандартами самовыживания, борьбы за элементарные социальные блага, казачье движение представляется «идейным» образованием, деятельность которого направлена на социальные преобразования и которое реально заинтересовано в социальном участии молодежи.
Наличие социальных и культурно-символических ресурсов побуждает казачество к «конкурентной» борьбе за настроения молодежи, где ставкой является позиция казачества в российском обществе. Мало вероятно, что, играя в иной социальной среде, казачество может обрести союзников, так как в постсоветский период сформировались маргинализированные социальные слои, группы населения, не подверженные позитивной социальной мобилизации и перекладывающие ответственность на обстоятельства или государство. Как пишет А.П. Скорик, «казачья повседневность и культура претерпели серьезные изменения в ходе «колхозного строительства»» [4, с. 494]. Очевидно, что последствия «советизации» казачества выявились в том, что казачье движение так и не смогло реализовать себя в традиционном секторе сельской жизни: казачий образ жизни, патриархальный с доминированием элементов военной демократии, в основном утерян и воспринимается в контексте прошлого большинством «новых» казаков, живущих в урбанизированной среде.
Можно сказать, что неспособность сформулировать альтернативу советскому коллективизму, путь общинного земледелия имеет положительную сторону в том, что в самоопределении возникает потребность искать новые формы, связанные с реалиями урбанизации. В опре- деленной мере можно согласиться с утверждениями, что казачество исчерпало ресурс развития, что проекты по восстановлению зон казачьего проживания не учитывают особенности российского рыночного капитализма, связанного с получением мгновенной прибыли и организации коммерческих проектов. В той же степени наивно ожидать «сельского» переобучения казачества, что привело бы к исторической имитации, и не выполняло бы ни экономической, ни социальной функции в развитии российского села.
Перспектива развития казачества в организации и внедрении экологического земледелия, производства уникальных продуктов, в предложении оздоровительного сельского труда, и основным адресатом может выступать молодежь, для которой существует потребность в альтернативных формах социальной жизни, в практиках «коллективных испытаний», в перемене рутинных форм деятельности, в инновационных формах социальной самодеятельности.
Важно, что, определившись в отношениях с государством, действуя в рамках государственной казачьей политики, казачье движение может нарастить социальный потенциал в системе общественных взаимодействий. Если в государственном статусе раскрывается традиционность казачества, диалог с молодежью нацеливает на социальную инновацию, формирование новых социальных и социокультурных возможностей, которые ориентируют на конструирование, создание нового социального облика казачества.
Ссылки:
Список литературы Российская молодежь и социальные перспективы казачества
- Скорик А.П. Казачий Юг России в 1930-е годы. Ростов-на-Дону, 2009.
- Киблицкий А.А. Этнокультурный брендинг как новая тенденция развития современного казачества//Государственное и муниципальное управление. 2011. № 2.
- Штомпка П. Социология социальных изменений. М., 1996.