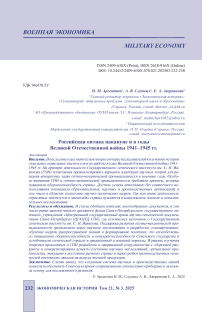Российская оптика накануне и в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Автор: Арсентьев Н.М., Слудных А.В., Аверьянова Е.А.
Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist
Рубрика: Военная экономика
Статья в выпуске: 3 (70) т.21, 2025 года.
Бесплатный доступ
Введение. В последние годы значительно возрос интерес исследователей к изучению истории отдельных отраслевых институтов и их работы в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. На примере деятельности Государственного оптического института им. С. И. Вавилова (ГОИ) попытаемся проанализировать варианты адаптации научных теорий для решения конкретных задач оптико-механической промышленности в военные годы. Особого внимания ГОИ и оптико-механической промышленности требовали проекты, которые повышали обороноспособность страны. Достичь успеха невозможно без совместного использования потенциала образовательных, научных и производственных организаций, в том числе в областях подготовки научно-технических кадров. Так или иначе деятельность отраслевых институтов в масштабах страны нуждается в комплексном подходе и дополнительных исследованиях. Результаты и обсуждение. В статье обобщен комплекс многообразных документов, в том числе ранее малоизученного архивного фонда Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Центральный государственный архив научно-технической документации Санкт-Петербурга» (ЦГАНТД СПб), где отложились источники о Государственном оптическом институте им. С. И. Вавилова. Поддержка развития оптико-механической промышленности происходила через научные исследования и разработки, стандартизацию, обучение кадров, распространение знаний и формирование политики, что способствовало повышению обороноспособности и конкурентоспособности Советского государства и устойчивости оптической отрасли в предвоенный и военный периоды. В рамках изучения тематики проводимых в ГОИ разработок и направлений сотрудничества с оборонкой раскрыты и конкретизированы аспекты состояния научных исследований, организации производства, эвакуации в восточные регионы страны и перестройки производственных мощностей оптических заводов на выпуск военной продукции. Заключение. Сделан вывод, что созданная система научных и производственных связей позволила обеспечить Советскую армию современными оптическими приборами и заложила основу для послевоенного развития.
Государственный оптический институт им. С. И. Вавилова, оптическая отрасль, отраслевой институт, Вторая мировая война, Великая Отечественная война 1941–1945 гг., эвакуация, Ленинград, Йошкар-Ола, всеобщая мобилизация, оборонная промышленность
Короткий адрес: https://sciup.org/147252133
IDR: 147252133 | УДК: 94(470.5)“ | DOI: 10.24412/2409-630X.070.021.202503.232-258
Текст научной статьи Российская оптика накануне и в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Nikolay M. Arsentyev1, Anatoly V. Sludnyh2, Ekaterina A. Averyanova3,
-
1 Editor-in-Chiefofthe journals “Russian Journal ofEconomic History”, “Russian Journal ofthe Humanities” (Saransk, Russia), е-mail: direktor_isi@bk.ru
-
2 Ural Optical and Mechanical Plant named after E. S. Yalamov (Ekaterinburg, Russia),
e-mail: sludnichav1982@inbox.ru
-
3 National Research Ogarev Mordovia State University (Saransk, Russia), (Saransk, Russian Federation), e-mail: averyanova-morm@mail.ru
Russian Optics Before and During the Years of the Great Patriotic War of 1941–1945
Introduction. In recent years, the interest of researchers in studying the history of individual branch institutes and their work during the Great Patriotic War of 1941–1945 has increased significantly. Using the example ofthe activities ofthe S. I. Vavilov State Optical Institute (SOI), we will try to analyze the options for adapting scientific theories to solve specific problems ofthe optical andmechanical industry during the waryears. Projects that increased the country’s defense capability required special attention from the SOI and the optical and mechanical industry. It is impossible to achieve success without sharing the potential ofeducational, scientific and industrial organizations, including in the fields of scientific and technical personnel training. One way or another, the activities of industry institutes across the country need an integrated approach and additional research.
Results and Discussion. The article summarizes a complex ofdiverse documents, including the previously little-studied archival fund ofthe St. Petersburg State Government Institution “Central State Archive of Scientific and Technical Documentation of St. Petersburg” (CSASTD SPb), where sources about the S. I. Vavilov State Optical Institute were deposited. The development of the optical and mechanical industry was supported through research and development, standardization, personnel training, knowledge dissemination and policy formation, which contributed to increasing the defense capability and competitiveness of the Soviet state and the stability of the optical industry in the pre-war and war periods. As part of the study of the developments carried out at SOI and areas of cooperation with the defense industry, aspects of the state of scientific research, production organization, evacuation to the eastern regions of the country and the restructuring ofthe production capacities of optical plants for the production of military products were revealed and specified.
Conclusion. It is concluded that the established system ofscientific and industrial relations made it possible to provide the Soviet army with modern optical devices and laid the foundation for post-war development.
Введение направлено на усиление оборонной про-
Накануне Второй мировой войны на- мышленности и развитие приоритетных, учно-техническое развитие в СССР было наукоемких отраслей, таких как оптическая промышленность, в условиях жесткой изоляции и курса на самообеспечение. Советское правительство ратовало за увеличение числа ученых и развитие прикладных исследований, но при этом сворачивало международные научные связи, фокусируя науку на нуждах государства.
Противоречия между планами СССР на грани Великой Отечественной войны и реальной обстановкой, а также между планами и их реализацией в годы войны действительно требуют пристального внимания со стороны историков и общественности, так как показывают не только успехи, но и неэффективность и просчеты как в предвоенном, так и в военном периоде. На примере оптики подчеркивая важность изучения опыта Советской России по перестройке деятельности оптической отрасли, в частности Государственного оптического института имени С. И. Вавилова, для обеспечения обороноспособности страны и укрепления экономического потенциала Советского государства.
Степень разработанности темы
Анализ литературы показывает, что вопросам истории Государственного оптического института имени С. И. Вавилова уделено недостаточное внимание в историко-научных изданиях. Для реконструкции исторических этапов развития института с учетом научного, технического и социокультурного аспектов необходимо использовать весь спектр имеющихся источников информации. В частности, историко-научных, науковедческих, отражающих вопросы, связанные с изучением становления и развития научных школ, выявлением их отличительных признаков; монографии по истории развития отдельных направлений оптики и сборники статей, посвященные научно-техническим достижениям отечественных ученых в области оптики и приборостроения [16]; историко-биографическая литература и периодические издания [2–4; 15; 17].
Значительно расширить границы научного поиска позволили неопубликованные архивные документы фондов
Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Центральный государственный архив научно-технической документации Санкт-Петербурга» (ЦГАНТД СПб). Наиболее полно деятельность ГОИ в годы войны отражают делопроизводственная и техническая документация ‒ отчеты лабораторий об испытаниях военной техники, вооружения и прочее, а также результаты исследований о материалах их изготовления.
Результаты и обсуждение
Промышленность СССР, независимая от других стран, оказалась способной обеспечить военное хозяйство необходимым за счет внутреннего производства. В СССР накануне Великой Отечественной войны был создан многоотраслевой, самодостаточный, технологически передовой комплекс народного хозяйства. Во время индустриализации возник целый ряд передовых отраслей экономики, выпускавших технологически сложную продукцию.
Формирование и проведение военной промышленной политики требует создания соответствующих управленческих структур. В предвоенные годы и в начале войны удалось организовать эффективно функционирующий аппарат управления, где вся полнота власти была сосредоточена в руках Государственного комитета обороны (ГКО) под председательством И. В. Сталина. Формированием планов народного хозяйства занимался Госплан СССР, а отраслевое руководство осуществляли наркоматы.
Военная перестройка народного хозяйства СССР нашла свое выражение в военнохозяйственных планах. Через неделю после начала Великой Отечественной войны принят первый план военного времени – «Мобилизационный народно-хозяйственный план на III квартал 1941 года». План предусматривал увеличение выпуска военной техники на 26 % по сравнению с планом, принятым до войны. В августе 1941 г. был принят «Военно-хозяйственный план на IV квартал 1941 года и на 1942 год по районам Поволжья, Урала, Западной Сибири, Казахстана и Средней Азии». Этот план был рассчитан на перемещение промышленности в восточные районы СССР и формирование в этих районах военного производства.
Первое полугодие 1941 г. характеризуется масштабным перемещением производственных сил на восток, которым руководил ГКО. Эвакуация промышленных предприятий и населения является составной, хотя и вынужденной частью перестройки экономики на военный лад.
Что же до тематики исследований, то Государственный оптический институт (ГОИ) накануне войны (конец 1930-х – 1941 гг.) столкнулся с рядом серьезных вызовов, определяющих его дальнейшую деятельность: во-первых, необходимость ускоренной милитаризации научных разработок. В условиях нарастающей международной напряженности и угрозы войны перед институтом стояла задача переориентации значительной части исследований на нужды обороны. Это требовало быстрой адаптации научных программ, мобилизации ресурсов и привлечения новых специалистов для решения оборонных задач. Во-вторых, технологическое отставание в ряде критически важных направлений. Несмотря на значительные успехи, в некоторых областях оптики и приборостроения СССР отставал от ведущих мировых держав. Это касалось, в частности, производства высокоточных оптических приборов, материалов и технологий, необходимых для создания современного вооружения. В-третьих, кадровые проблемы и репрессии. Конец 1930-х гг. был отмечен массовыми репрессиями, которые не обошли стороной и научные учреждения. Утрата опытных специалистов, страх перед преследованием могли негативно сказаться на творческом климате и темпах исследований. В-четвертых, ограниченность материально-технической базы. Несмотря на усилия по развитию, ГОИ испытывал недостаток в современном оборудовании, сырье и материалах, что затрудняло проведение сложных экс- периментов и внедрение новых разработок. В-пятых, поиск новых направлений исследований, актуальных для будущего. Помимо уже существующих оборонных задач, перед учеными стоял вызов прогнозирования будущих потребностей армии и флота в оптических системах и технологиях, что требовало стратегического видения и научных прорывов.
Начавшаяся война наложила на привычную деятельность ГОИ отпечаток типичных для того времени экстренных мер и героических усилий. На следующий день после начала войны, 23 июня 1941 г., внеочередным расширенном заседании Академии наук СССР было принято решение о перестройке деятельности научных учреждений на военную тематику и первоочередное обеспечение всем необходимым коллективов, которые будут работать для нужд армии и флота. Директор Государственного оптического института Д. П. Чехматаев спешно организовал собрание руководящих сотрудников для обсуждения сложившейся обстановки и рассмотрения перспектив деятельности учреждения в военное время. Единогласно было принято предложить командованию Ленинградского фронта свою помощь1.
Предполагалось, что эвакуация ГОИ состоится в конце июня ‒ начале июля 1941 г. Однако решение данного вопроса растянулось до конца июля. Быстрое продвижение немецких войск к Ленинграду заставило Совет труда и обороны СССР вынести срочное решение о том, что научно-исследовательские институты города, в том числе ГОИ, необходимо эвакуировать вглубь страны. Ввиду отсутствия общесоюзного плана эвакуации последовало распоряжение отраслевого ведомства, Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР (НКТП СССР), о командировании в Москву ответственных представителей оптического института для выбора места его возможной эвакуации. Решение этого вопроса было поручено группе во главе с заместителем начальника оптотехнической лаборатории Е. Н. Царевским. Для эвакуации был определен г. Йошкар-Ола (бывший Царевококшайск) Марийской АССР (МАССР; в настоящее время – Республика Марий Эл).
В постановлении ГКО СССР от 11 июля 1941 г. № ГКО-99 «Об эвакуации промышленных предприятий» был определен порядок и организация эвакуации ГОИ Наркомата вооружения СССР: крупных людских и материальных ресурсов из прифронтовой полосы на восток страны2.
Согласно решению Военного совета Северного фронта и Исполнительного комитета Ленинградского городского Совета от 29–30 июля 1941 г., директора ГОИ Д. П. Чехматаева обязывали оставить в Ленинграде группу научных сотрудников с оборудованием, необходимым для квалифицированного решения вопросов маскировки городских объектов. Эти решения явились основанием для организации на время войны Ленинградского филиала ГОИ. С того времени жизнь и деятельность Государственного оптического института разделилась на два города: Ленинград – Йошкар-Ола.
В конце июля 1941 г. немцы перерезали многие железнодорожные пути из Ленинграда и близко подошли к прямой дороге через Бологое, поэтому эвакуацию института было решено проводить по Северной дороге.
Эвакуацией ГОИ занимался заместитель директора по научной работе Сергей Иванович Вавилов. Согласно постановлению ГКО, эвакуация ГОИ была запланирована в две очереди. Одним из основных правил при демонтаже и перемещении ГОИ было сохранение комплектности оборудования. Эшелоны формировались с таким расчетом, чтобы на новом месте быстро организовать выпуск необходимой фронту продукции.
Руководящий состав ГОИ и сотрудники института сформировали первый эшелон из 40 вагонов с людьми и оборудованием, который 27 июля 1941 г. из Ленинграда отправился в путь по Северной дороге через Вологду, находясь в пути 11 суток. Продвигались медленно, поскольку дорогу регулярно бомбили. На узловой станции Зеленый Дол свернули на Йошкар-Олу. Так, первому эшелону удалось проехать благополучно, ни разу не попав под бомбежку. Второй эшелон отправился из Ленинграда 7 августа 1941 г., проследовал через Москву и 14 августа прибыл в Йошкар-Олу. Сохранение дисциплины, духа товарищества и взаимовыручки в значительной мере помогало руководителям эшелонов, обычно назначенным из числа членов коллектива, – уважаемым энергичным товарищам. Эшелоны везли в тыл страны тысячи людей, но это не были беженцы. Это были сплоченные коллективы людей, воодушевленные одной идеей – восстановить производство, быстрее выдать продукцию фронту. Таким образом, это было фактическое, приоритетное исполнение задачи.
В столицу МАССР прибыли 566 сотрудников ГОИ, в числе которых значились 160 научных работников, 113 инженеров и техников, 182 рабочих, 49 служащих и 62 работника из числа младшего обслуживающего персонала. Среди научных сотрудников были четыре академика, два члена-корреспондента Академии наук СССР, 20 докторов технических наук и 31 кандидат технических наук [7, с. 396–407].
В отрыве от других научных центров и собственной библиотеки ГОИ предстояло наладить работу эвакуированного ленинградского института на окраине Йошкар-Олы в наскоро приспособленных помещениях Поволжского лесотехнического института (ПЛТИ), который имел деревянные междуэтажные перекрытия. Лишь в одной части здания перекрытия оказались бетонными. С этого времени привычный ленинградский адрес изменился на незнакомый: улица Советская, 92. В конце ав- густа – начале сентября демонтированные лаборатории и механическое оборудование разместили в аудиториях. Вспомогательные цеха – столярный, водопроводный, ремонтно-механический, ремонтно-строительный и другие – в помещении бывшей детско-технической станции, а также в дощатом сарае, который утеплили, засыпав между дополнительно набитыми досками опилки. Для установки оборудования опытного цеха на первом этаже прорубили полы, сделали кирпичные и бетонные фундаменты. Здесь же поместили кузницу и заготовительное отделение.
В первые дни все прибывшие ленинградцы занимались разгрузкой оборудования, приведением в порядок помещения. Начальников лабораторий и тех, кто имел ученые степени и звания (доктор, профессор, академик), освободили от погрузочноразгрузочных и других тяжелых работ. Однако они шли вместе со всеми и позднее с гордостью рассказывали о своем участии в общем труде [11, с. 332].
Отсутствие социально-бытовых условий сказывалось во всем: в здании Поволжского лесотехнического института не было ни водопровода, ни центрального отопления, ни силовой проводки и ничего того, без чего была мыслима научная лаборатория. Рабочий день в институте начинался в девять часов утра и официально продолжался до шести часов вечера. По факту же работали допоздна. Сотрудники ГОИ своими силами копали канавы и прокладывали водопровод, монтировали центральное отопление, тянули проводку, оборудовали свою электростанцию, генератор которой работал от локомобиля – мощность городской электростанции составляла всего 50 кВт3.
Из сохранившихся телеграмм, информационных писем, докладных записок руководства Марийского областного комитета ВКП(б) в ГКО СССР и Центральный комитет ВКП(б) известно, что, к сожалению, площади ПЛТИ не хватало, чтобы в полной мере развернуть работу части эвакуированного, но все еще огромного ГОИ, поэтому по решению государственных ведомств был занят еще ряд общежитий и близлежащих зданий. Так, постановлением СНК МАССР городская столовая № 5 была передана ГОИ. Для отопления столовой и общежитий оптическому институту было выделено более 5 000 куб. м дров, однако ГОИ не успел приступить к их вывозке, объясняя это тем, что имеющийся в распоряжении транспорт был занят выполнением других видов работ.
В эвакуации вычислительный отдел (бюро) оптического института, возглавляемый членом-корреспондентом АН СССР А. И. Тудоровским, в силу специфики своей работы начал функционировать значительно ранее других отделов. Состав сотрудников заметно отличался от ленинградского отдела. Закрыть недостаток штатных единиц бюро помогли несколько жен сотрудников других отделов.
По приезде в Йошкар-Олу реорганизовали вычислительное бюро. Его разделили на четыре группы: по расчету телескопических систем (руководитель – А. А. Вишневский), двегруппыпорасчетуфо-тографических объективов (руководители – Г. Г. Слюсарев и Д. С. Волосов), по рас- чету оптики микроскопов (руководитель – Г. Д. Рабинович).
До переезда в Йошкар-Олу основной задачей вычислительного бюро являлось обеспечение работоспособности аппаратных средств вычислительной техники, оргтехники в структурных подразделениях, а также модернизация на базе современных технологий. Однако война существенно изменила направления исследований и конкретных разработок в области теории и расчета оптических систем, и внимание бюро сосредоточилось на решении узконаправленных задач. Среди них приоритетными считались: создание длиннофокусных и светосильных объективов для аэросъемки и разработка длиннофокусных телеобъективов для наземной фотосъемки удаленных объектов (оптика «дальнобойной» фотографии).
Большая работа была предпринята по перерасчету наиболее ходовых военных приборов на минимальное количество стекол, которые изготавливали на заводах оптического стекла. Фотографические группы выполняли большие работы по расчету различных фотографических объективов. Были изобретены новые схемы объективов, в том числе зеркально-линзовых светосильных объективов с афокальным компенсатором (простейшим афокальным компенсатором является плоскопараллельная деформированная пластинка Шмидта), телеобъектива «Таир» с повышенным качеством изображения и др., а также усовершенствованы ранее известные типы объективов. В группе микроскопии разрабатывались объективы повышенной апертуры, короткофокусные окуляры оригинальной конструкции, лупы и т. д.
Теоретический анализ аберрационных свойств телеобъективов позволил профессору Д. С. Волосову в 1941–1942 гг. создать теорию и методику расчета двухкомпонентных ортоскопических телеанастигматов, на основе практической реализации которой уже к середине 1943 г. были разработаны, изготовлены и исследованы телеобъективы «Телемар», предназначенные для аэросъем- ки на большие для тех лет форматы изображения 30х30 см и имели фокусные расстояния 750 мм при относительном отверстии 1:6,3 («Телемар-2») и 1000 мм при относительном отверстии 1:7 («Телемар-7»). Удачными явились созданные светосильные широкоугольные семилинзовые астигматы «Уран», положившие начало большому семейству объективов этого типа, таким как «Уран-9». Созданные фотообъективы существенно повысили эффективность аэрофотосъемки [17, с. 97].
Механическая и оптическая мастерские ГОИ работали только в одну смену в силу недостаточности квалифицированных рабочих. Требовались специалисты на следующие вакансии: токарей – 7 чел., слесарей – 15, механиков – 25, оптиков – 15, фрезеровщиков – 5 чел. Всего 67 человек. Кроме того, требовались рабочие и другой специальности – 55 чел., а именно: строителей – 30, стекловаров – 10, электромонтеров – 5 и грузчиков – 10. ГОИ приходилось идти на крайние меры: за отсутствием жилплощади для рабочих института по этим специальностям организованный набор не производился, а принимали молодежь из местных жителей, имеющих свою квартиру, с расчетом прикрепить их к квалифицированным рабочим и в течение 3–4 месяцев приучить эту молодежь к самостоятельной работе.
Помимо прочего, после эвакуации в Йошкар-Олу за период с 25 сентября по ноябрь 1941 г. у ГОИ существовал ряд нерешенных проблем. Для выполнения производственного плана ГОИ не располагал достаточным количеством цветных металлов (алюминий, латунь, медь), нержавеющей стали, лесоматериалов, гвоздей и электропроводов. Также требовался основной материал – оптическое стекло, а для его производства к тому времени не были решены вопросы об использовании местного сырья и запуска лаборатории горячих процессов. В сжатые сроки научные сотрудники ГОИ не успели изыскать, как будет отапливаться печь для варки оптического стекла.
Коллектив ГОИ своими силами и с помощью жителей Йошкар-Олы построил не- большой стекольный завод (лабораторию), где изготовляли некоторые виды оптического стекла, бо́льшую часть которого отправляли на шлифовку в Казань, куда, кстати, был эвакуирован физический институт (ФИАН).
Из рассекреченной архивной документации известно о жилищно-бытовых условиях работников Государственного оптического института в Йошкар-Оле. Так, рабочие и научные сотрудники института обеспечивались жилой площадью (в среднем около 3 кв. м на человека), и в одной комнате проживали минимум две семьи. Дети спали на столах и под ними. Помещения типа общежитий, в основном без водопровода и канализации. Примечательной особенностью был общий водогрей для чая. Очередь к нему была длинная. Со временем вместо себя ставили кирпич, и часто возникали споры: чей кирпич ближе к водогрею. Отмечается, что даже при массовом уплотнении местного населения жилья не хватало. Местные жители довольно точно называли всех прибывших «выковырянные» вместо «эвакуированные».
В целях расширения собственной продовольственной базы и улучшения снабжения продовольствием принимались меры по созданию подсобного хозяйства огородно-овощного и животноводческого направления. Из воспоминаний А. А. Лебедева – младшего о начале сельскохозяйственных работ: «ГОИ отвели участок под картошку за кирпичным заводом, вспахали его трактором, а затем сотрудники сажали картошку. Опыта ни у кого не было, одна голая теория».
Об этом факте свидетельствует информационная записка второго секретаря Марийского обкома ВКП(б) Г. И. Кондратьева в Центральный комитет ВКП(б), составленная 10 июня 1943 г., из которой следует, что «ГОИ (Государственный оптический институт) вместо 56 га по плану освоил под посев площадь в 77 га, увеличив ее почти вдвое. Ферма крупного рогатого скота при подсобном хозяйстве с 23 голов возросла до 40 голов. Возросло число свиноферм. Вновь создана овцеводческая ферма с поголовьем в 18 шт. овец». Также имелось два овощехранилища на 600 т и один засолочный пункт примерно на 80 т. Кроме того, ГОИ передавались не используемые пригородными колхозами земельные участки для ведения индивидуальных огородов4.
Отмечается, что для всех эвакуированных оптических заводов (которые оказались в Йошкар-Оле, Казани, Новосибирске, Свердловске, Никольске и т. д.), с колес начавших поставлять приборы на фронт, ГОИ разработал единые технические требования на оптические детали всех военных оптических приборов. Эвакуированные предприятия в Йошкар-Оле также размещались во временных помещениях и испытывали трудности, в первую очередь из-за нехватки электроэнергии. Введенная в эксплуатацию в сентябре 1943 г. тепловая электроцентраль сняла эту проблему. Часто в цехах создавалась очень тяжелая обстановка из-за нехватки людей, но это не освобождало коллектив от выполнения установленного задания. Спрос за выполнение заданий все время ужесточался; начальники участков, мастера по окончании смен давали отчеты о проделанной работе и строго наказывались за срыв графика5.
В первый год войны особое внимание главных конструкторов ГОИ было направлено на усовершенствование технологического процесса и сосредоточено на отработке технической документации, необходимой в связи с расширением объемов производства. Также в приоритете были модернизация находящихся на вооружении оптических приборов и создание принципиально новых конструкций изделий. С этой целью на предприятиях оптической промышленности была развернута серьезная агитационная и массово-политическая работа. Между производственными участками и бригадами было организовано социалистическое соревнование. Активно внедрялись в производственный процесс и рационализаторские предложения, что приводило к хорошим результатам.
Технологическую подготовку производства образцов вооружения в тылу осуществлял экспериментально-производственный отдел (ЭПО) ГОИ под руководством Евгения Николаевича Царевского. ЭПО оказывал большую помощь научным лабораториям, воплощая в стекле и металле новые разработки. В условиях военного времени бесперебойно выпускал оптические приборы без заметного снижения их эксплуатационных качеств. За 1942–1944 гг. ЭПО были изготовлены 1 480 приборов 283 наименований, 28 наименований аэрофотообъективов, освоены новые серийные приборы 15 наименований. Если детально, то были разработаны и внедрены устройства подсветки шкал, светящиеся составы для нанесения надписей и указателей. Созданы установки для фиксации быстропротекающих процессов (разрушение брони снарядом). В 1942– 1943 гг. разработаны макет электронного микроскопа с 20 000-кратным увеличением, установки для контроля прямолинейности пушечных стволов, фотокамеры для наземной и воздушной разведки «Фотоснайпер», высокоразрешающие фотопленки, светофильтры и опытные образцы объективов «Телемар» для обнаружения замаскированных объектов врага [16, с. 2–11].
Основная деятельность ГОИ в тылу была подчинена прежде всего решению оперативных вопросов военного времени. По прибытии в Йошкар-Олу была проведена частичная оптимизация и организация новых лабораторий и отделов института для повышения эффективности. Функциональные подразделения ГОИ возглавили академики: С. И. Вавилов, И. В. Гребенщиков, А. А. Лебедев, В. П. Линник, А. Н. Теренин; члены-корреспонденты АН СССР: Д. Д. Максутов, А. И. Тудоровский; про- фессора: В. В. Варгин, Л. Н. Гассовский, А. А. Гершун, М. М. Гуревич, К. Г. Куманин, Е. Н. Царевский и другие ведущие ученые.
Перед самой войной в целях избежания разрозненности и формальности научной деятельности оптического института С. И. Вавилов выступил на собрании руководителей лабораторий ГОИ. Он обратился со словами: «Собирались по лабораториям планы работ. Выяснилось, что по большинству работ графы с содержанием этапов заполнены формально… Изложения существа работы я не нашел. Отсутствие четкости в плане научного исследования, даже при всем добром желании и дисциплине, может чрезвычайно скверно повлиять на успешность работы…»6.
В лаборатории фотохимии под руководством академика А. Н. Теренина был разработан и освоен физический метод просветления оптических деталей, который обеспечивал высокое качество изготовления оптических приборов в экспериментальных мастерских ГОИ. Также здесь была сконструирована установка для просветления оптики, алюминирования зеркал и других вакуумных процессов, необходимых промышленности, разработан прибор для испытания светопрочности окраски, применение которого в промышленности обеспечивало быстрое и точное определение светопрочности текстильных и лакокрасочных окрасов. Наряду с прикладными работами, лаборатория продолжала развивать фундаментальные исследования. За годы войны А. Н. Терениным была подготовлена монография «Фотохимия красителей и родственных соединений», опубликованная в 1947 г.
Исследование свечения и природы света не прекращалось и во время войны. В лаборатории люминесценции, возглавляемой академиком С. И. Вавиловым, активно продолжались разработки и внедрение люминесцентных методов световой маскировки, устройств подсветки шкал военных приборов, «самосветящиеся» лупы, светящихся составов для нанесения надписей и указателей, которые позволяли ориентироваться в темноте при ведении прицельного огня в ночное время.
Напряженную работу над практическими, важными задачами С. И. Вавилов и его сотрудники стремились сочетать с разработкой научных проблем. Именно в то время закладывались основы теории концентрационных явлений в люминесценции. П. П. Феофиловым были проведены исследования ночной освещенности и распределения энергии в спектре ночного неба, необходимого для целесообразного выбора яркости маскировочных светильников7.
Внести хотя бы небольшой вклад в общее дело помощи фронту и народному хозяйству в тылу старались и сотрудники лаборатории прикладной физической и электронной оптики (ЛПФО) ГОИ. Под руководством академика А. А. Лебедева работали над импульсными световыми дальномерами; посадочными и створными устройствами (для навигации); высокочастотными фотографиями для изучения быстродвижущихся механизмов и быстро-протекающими процессами; разработкой новых методов разведки (наблюдательные приборы); электронно-оптическими преобразователями; магнитными сепараторами и электронными микроскопами; созданием теории электронного микроскопа. В 1942–1943 гг. построенный макет электронного микроскопа имел 20 000-кратное увеличение и разрешение 150 А. Большое значение имела разработка в лаборатории магнитного сепаратора для очистки песка от примесей железа и хрома, наличие которых в песке из местных карьеров не позволяло получить оптическое стекло необходимого качества. Сепараторы ГОИ работали при варке стекла всю войну. Кроме того, была разработана и создана установка для изучения быстропротекающих процессов, известная как разрушение брони снарядом.
Деятельность оптотехнической лаборатории совместно с сектором по изучению технологических процессов изготовления оптических и механических деталей под руководством академика В. П. Линника была также подчинена нуждам Красной армии. В 1942 г. для обеспечения контроля геометрических параметров изделий машиностроения при использовании метода светового сечения был разработан оптический прибор для измерения прямолинейности плоских и цилиндрических поверхностей, предложен микроскоп для контроля основных параметров внутренних резьб (шаг, угол профиля, средний диаметр). Отечественная промышленность по разработкам ГОИ военных лет выпускала с 1944 г. двойной микроскоп МИС-11, а, позднее, в 1966 г., освоила более совершенную модель ПСС-2 [6, с. 3–14].
В составе оптотехнической лаборатории имелась группа фотооптики, в военное время проводившая испытания экспериментальных серийных фотообъективов, которые создали в ГОИ: «Индустар», «Уран», «Орион», «Арктик» и многие другие. Созданием таких средств вооружения в эвакуации занималась лаборатория научной фотографии (ЛНФ) профессора Григория Павловича Фаермана.
Из ленинградского состава лаборатории научной фотографии ГОИ было эвакуировано чуть более половины – 19 чел., которые в короткие сроки приступили к выполнению поставленных задач. Первоочередная цель для исследователей – контроль качества аэрофотопленок. Снимки должны были помочь рассекретить вражеские огневые точки.
Сотрудники института И. А. Черный, И. А. Тельтевский, К. А. Вентман, Д. Волков активно занимались вопросом по созданию малогабаритного, легкого, переносимого одним человеком прибора, который выдавал снимки одного разрешения. В результате благодаря их слаженной работе
Йошкар-Ола стала родиной отечественной дальнобойной фотографии8.
Деятельность лаборатории научной фотографии была тесно связана с конструкторским бюро, вычислительным отделом и мастерскими ГОИ. Уже в октябре 1941 г. был готов прибор ЭПИ-8 – аппарат ФЗД с объективом из ахроматической линзы с фокусным расстоянием 1,5 м. К началу декабря того же года был рассчитан, сконструирован и построен прибор ДФ, соответствующий всем требованиям, предъявляемым к военным приборам. Успешное десятидневное испытание прибора И. А. Черным на площадке Артиллерийского института в г. Семенов Горьковской области способствовало тому, что ГОИ получил госзаказ данного прибора в количестве 150 шт., а к июню 1942 г. выполнил его.
К тому времени был уже рассчитан, сконструирован и построен перископический прибор ЦДФ для той же цели. Поздней осенью 1942 г., после испытаний, проведенных под Москвой, прибор был принят на вооружение, и последовало распоряжение Главнокомандующего И. В. Сталина об организации его производства. Мастерские ГОИ изготовили партию данного прибора и с марта по апрель 1943 г. К. А. Вентман выехал на фронт, где, работая на переднем крае, удалось вскрыть оборону противника с его инженерными сооружениями. Кроме того, произведенными съемками было обнаружено два наблюдательных поста противника, которые ранее не были обнаружены из-за их маскировки. За проявленное мужество и героизм в адрес директора филиала ГОИ командир части № 63958 майор В. Панькин ходатайствовал о представлении ученого к правительственной награде. В дальнейшем указанные приборы изготавливались мастерскими ГОИ и Красногорским заводом, а затем успешно применялись на фронтах9 [9, с. 149–162].
Работа не останавливалась ни на минуту. Серия из 10 шт. длиннофокусных приборов для документальной военной кинохроники с объективами 750, 1 000 и 1 500 мм, созданная в течение одного месяца по заданию ЦК ВКП(б) и отправленная специально присланным самолетом непосредственно на фронт, доказывала передовой опыт и укрепляла статус одной из ведущих лабораторий в оптическом институте. Например, фотоснайпер (ФС) был рассчитан Д. С. Волосовым и Г. Г. Слюсаревым. Над серией приборов ДФ, ЦДФ, ЦДФ-3 и ФС работали следующие специалисты: И. А. Тельтевский, С. И. Лебедев, Л. Ф. Орел, А. Е. Михайлов, Е. В. Добкевич, И. А. Черный, К. А. Вентман, А. Т. Ащеулов. Сотрудники лаборатории И. А. Черный и К. А. Вентман по поручению командования артиллерией не раз выезжали для испытания приборов и в Москву, и на фронт, в блокированный Ленинград (левый берег Невы), на южную границу.
Группа сотрудников ГОИ, оставшаяся в Ленинграде, также участвовала в этой работе. Перископ работал на Пулковских высотах, под Невской Дубровкой, под Нарвой. Еще в военное время было известно, что в 1941 г. противник фотографировал берега Англии через Ла-Манш. Но это была не единственная работа лаборатории научной фотографии: Ф. Л. Вурмистров, В. А. Вейденбах, Е. А. Карпович наладили на Красногорском заводе производство марок для снайперских прицелов, а на заводах Йошкар-Олы и Казани ‒ шкал для стереодальномеров. Е. Т. Дубатовко и С. С. Гилев разработали систему спектрозональной аэросъемки и дешифрования. Л. П. Чураев разработал систему АФА с автоматическим регулированием диафрагмы объектива, успешно прошедшую испытания в ГК НИИ ВВС (Государственный Краснознаменный научно-испытательный институт Военно-воздушных сил СССР; в настоящее время – 929-й Государственный летно-испытательный центр Министерства обороны Российской Федерации имени
В. П. Чкалова – 929-й ГЛИЦ ВВС имени В. П. Чкалова) в мае 1945 г.10
Великая Отечественная война не дезорганизовала деятельность Государственного оптического института, лишь во многом изменила направления исследований. Например, сотрудничество ГОИ с Ленинградской военно-воздушной академией Красной армии (ныне Военная инженерно-космическая академия им. А. Ф. Можайского) в Йошкар-Оле.
Из воспоминаний бывшего заместителя начальника Академии генерал-полковника Александра Николаевича Пономарева об эвакуации и сотрудничестве с ГОИ: «Йошкар-Ола в то время был совсем маленьким городом. А военная судьба привела сюда кроме нашей академии множество других эвакуированных учреждений… сюда, в далекий таежный городок, о существовании которого мы сами узнали, лишь став его жителями… откуда и как привлечь ученых? И вдруг узнаю, что неподалеку от нас разместился тоже эвакуированный из Ленинграда ГОИ ‒ Государственный оптический институт. Оба (имеется в виду академик С. И. Вавилов и А. Н. Пономарев) мы рады нежданной встрече. В Ленинграде Вавилов и его коллеги были частыми гостями в наших аудиториях, охотно принимали наших слушателей в своих лабораториях, делились своими успехами, планами. И здесь, в Йошкар-Оле, как хорошие знакомые встретили меня академики В. П. Линник, А. А. Лебедев, Т. П. Кравец. Сразу договариваемся о лекциях» [12].
Оказание научно-технической помощи академии заключалось в испытании новой аэрофотоаппаратуры. Сложность работы заключалась в получении разрешения на испытание приборов, еще не освоенных промышленностью, тем более не входящих в компетенцию учебного заведения Красной армии. Помог общепризнанный научный авторитет С. И. Вавилова: центральные органы управления, контролирующие оснащение РККА, не осмелились обижать академика и дали добро.
Перед коллективом ГОИ стояли сложные технические и организационные задачи. Ученые на санках доставили приборы на аэродром, с помощью инженеров академии установили их на самолетах. Это были новые аппараты для аэрофотосъемки. «…Фотоснимки были изумительные. Не верилось, что они сделаны с большой высоты: четко просматривалась каждая деталь местности». Позднее производство аэрофотоаппаратов осуществлялось в Свердловске на заводе № 356 Наркомата вооружения СССР. В 1944 г., после назначения главным инженером завода Я. Д. Га-узнера, были изготовлены и направлены на испытания в боевых условиях новые аэрофотоаппараты, где они показали хорошие результаты. За разработку и производство новейших образцов вооружения Я. Д. Га-узнера наградили орденом Отечественной войны I степени.
Ученых ГОИ как в Ленинграде, так и в эвакуации отличало умение развивать деятельность титанических масштабов и делать несколько дел одновременно. Например, академик В. П. Линник в Йошкар-Оле не только работал в ГОИ и читал лекции в Военно-воздушной академии Красной армии, но и до августа 1944 г. работал по совместительству консультантом в центральных заводских лабораториях (отдел № 26 завода № 297). При его участии на заводе разрабатывались технологии обработки оптического стекла и сборки приборов.
С начала войны имели место редкие исследовательские работы ГОИ, но уже в 1943 г. положение изменилось и вновь широко развернулись фундаментальные исследования. Ю. Н. Гороховский защитил докторскую диссертацию, И. Р. Протас, Л. П. Чураев, П. В. Мейкляр – кандидатские диссертации. Был написан ряд статей, опубликованы книги и руководства, осуществлен перевод книги К. Миза11.
Также в 1941 г. вышли два сборника трудов ГОИ. Один из них – сборник статей по расчету и исследованию прожекторных систем, продолжающий цикл предыдущих разработок. Второй сборник включал результаты работы ГОИ по созданию отечественных поляризационных светофильтров, начатой в 1936 г. по инициативе С. И. Вавилова. Изложена технология производства светофильтров и приведены их оптические характеристики (Г. П. Файер-ман и многие другие). Этот выпуск трудов ГОИ был издан уже в Йошкар-Оле.
В трудных условиях эвакуации институт продолжал напряженно работать, решая насущные для обороны страны научные и технические задачи. Понятно, что его деятельность в те годы не могла широко освещаться в печати. Среди сравнительно немногочисленных опубликованных работ есть и три выпуска трудов ГОИ, изданные в 1944 г.
Монолитность фронта и коллектива ГОИ верно отметил академик Илья Васильевич Гребенщиков в апрельском выпуске газеты «Марийская правда»: «Работа нашего учреждения целиком направлена на разрешение сложных вопросов, связанных с дальнейшим укреплением оборонного могущества родины. Наши научные силы неустанно работали и работают над изобретением и производством новых приборов, необходимых для вооружения Красной Армии, над усовершенствованием технологического процесса их массового производства, над разработкой способов замещения ряда недостающих материалов, нужных для изготовления этих приборов»12.
Вторжение фашистской Германии в СССР повлекло за собой серьезную проблему по обеспечению заводов оптико-механической промышленности основным производственным материалом – оптическим стеклом. Научно-техническая деятельность стекольных лабораторий ГОИ в Йошкар-Оле также была осложнена, поскольку они лишились экспериментальной и опытной базы для выполнения технологических операций по плавке и разделке оптических материалов. В довоенный период производство уникального материала осуществлялось на заводах ИЗОС и ЛенЗОС. Однако, оказавшись на прифронтовой территории, оба завода полностью прекратили выпуск оптического стекла.
По предложению руководителя стекольной лаборатории академика И. В. Гребенщикова решением ГКО ЛенЗОС и Изюм-ский завод были эвакуированы на восток – в Никольск Пензенской области (в 1941 г. ‒ пос. Никольская Пёстровка, в 25 км от железной дороги), для того чтобы наладить выпуск примерно 50 марок оптического стекла. В качестве площадки для перебазирования заводов был определен завод «Красный гигант», выпускавший художественное стекло и сортовую посуду. Однако место размещения было непригодно для выполнения высокотемпературных процессов.
В сентябре 1941 г. на новую площадку в Никольской Пёстровке прибыли руководящие, инженерно-технические работники и рабочие основных профессий ЛенЗОСа с несколькими квалифицированными рабочими. В октябре того же года – четыре эшелона почти в 4 000 т грузов с оборудованием ИЗОСа, необходимым для организации производства оптического стекла, энергосиловыми установками, огнеупорами для строительства стекловаренных печей, химикатами для стекловарения. Специалисты прибывших заводов, используя довоенный опыт, провели работы по восстановлению производства и разделке оптического стекла. Одновременно с реконструкцией «Красного гиганта» велась разработка технической документации применительно к работе в новых условиях и организация новых процессов производства13.
Буквально в течение трех месяцев на базе завода «Красный гигант» был создан совершенно новый оборонный завод, пол- ностью обеспечивающий потребности в оптическом стекле начиная с первых месяцев 1942 г. С целью сокрытия характера производства и места дислокации заводу был присвоен № 354.
Производство в новых условиях возглавили ученые-оптики: главный инженер И. М. Бужинский, главный технолог И. И. Назаров, начальник производства Л. И. Демкина, начальники отделов и цехов: А. М. Сидоренко, В. Ф. Синяков, Н. Н. Игнатов, М. Ф. Леонов, В. Г. Мирошниченко, Е. И. Талант. Особое положение занимает главный контролер отрасли В. С. Доладу-гина.
С каждым годом войны возрастала потребность Красной армии в качественных оптических приборах, что в свою очередь способствовало расширению производства оптического стекла. Так, в 1943 г. некоторые из специалистов ЛенЗОСа и Изюм-ского завода были направлены в пос. Сарс Пермской области для налаживания производства по усовершенствованной технологии, где успешно справились с поставленной задачей.
После эвакуации большей части оборудования и людей оставшийся коллектив ЛенЗОСа в Ленинграде выполнял производственную программу по выпуску оптического стекла, обеспечивая заготовками стекла заводы ГОМЗ и «Прогресс». Коллектив в основном состоял из женщин, пожилых мужчин и подростков. Директором был назначен Г. И. Поляков, главным инженером ‒ В. В. Гаврилов. Готовились к обороне: строили убежища, рыли окопы, занимались светомаскировкой. 4 сентября был обстрелян завод «Большевик». Последняя ниточка надежды оборвалась в 1942 г., когда прекратилась подача электроэнергии и производство стекла в Ленинграде остановилось. Сотрудники остановившегося Лен-ЗОСа были мобилизованы на «очистку» города. Они обходили дворы и квартиры и собирали трупы, чтобы захоронить их в братских могилах. За эту работу ежедневно выдавали 100 г спирта, который можно было обменять на хлеб.
Сохранение человеческих ресурсов – ключевых специалистов ЗОСа стало тогда объективной необходимостью. В скором времени первой директивой наркома обороны СССР Г. И. Поляков, М. И. Смирнов, К. Н. Баранов и другие сотрудники были направлены в пос. Сарс. Там силами эвакуированных лензосовцев М. С. Гомельского, Ф. А. Курлянкина, Е. И. Галанта, М. М. Ларина, Л. Т. Кошур, Л. В. Сысоева, И. В. Пластинина и других в 1942 г. было создано второе производство оптического стекла. Специалисты ЛенЗОСа Д. Е. Виль-нер, П. С. Криволуцкий, Г. М. Соломенцев, К. Н. Баранов участвовали в пуске в 1943 г. третьего завода в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области.
Период бездействия оставшейся части ЛенЗОСа в блокадном Ленинграде продолжался до марта 1943 г., когда решением горкома партии, руководившего в то время промышленностью города на Неве, поручили обеспечивать оптическим стеклом местную оптико-механическую промышленность.
В условиях войны для оптимизации работы ЗОС Наркоматом обороны было принято решение о присоединении Лен-ЗОСа в качестве цеха к филиалу Государственного оптико-механического завода. По собственной инициативе, используя запасы стекла, к прессам, печам и станкам встали женщины-инженеры: А. И. Ивлева, М. Ф. Гладкова, Н. Д. Петрова, А. А. Свешникова, К. В. Федорова, Т. У. Пещерева, А. А. Сидорова, Е. М. Сергеева, М. А. Касаткина, К. Д. Ермакова и др. Организацию работы нового завода осуществляли директор И. Е. Шаповал, переведенный сюда из Приуралья, и главный инженер В. Г. Карташев. На заводе сохранилось 5 % довоенных сотрудников. Набор новых рабочих шел трудно: город и область опустели.
Несмотря на громадные трудности, небольшой коллектив завода восстановил и подготовил к эксплуатации во время войны 2/3 производственных мощностей, а затем приступил к выпуску прежней продукции. Отмечается, что дрова, которые были нуж- ны в том числе для стекловаренных печей, научные сотрудники заготавливали на Карельском перешейке.
Таким образом, три производства обеспечили бесперебойную работу оптико-механических заводов, изготовивших за годы войны миллионы оптических приборов для кораблей, подводных лодок, самолетов, танков, орудий и снайперских винтовок. После возвращения эвакуированных лензосовцев были восстановлены две стекловаренные печи и печи отжига. После полной капитуляции противника почти прекратились военные заказы, работа переориентировалась на производство хрусталя. Выпуск оптического стекла в 1945 г. составил 2,3 % от довоенного уровня.
На линии фронта советские корректировщики цели применяли бинокли с множеством бликов, которые выдавали их противнику. Верховным главнокомандующим ВС СССР в адрес ГОИ была поставлена оперативная задача – создать антибликовое покрытие для поверхности линзы объектива. Устранить неприятные последствия отражения света от поверхностей оптических стекол было поручено И. В. Гребенщикову, А. Н. Теренину и еще ряду специалистов стекольной лаборатории. До 1940-х гг. вся оптика была «белой». Одинарное покрытие было впервые теоретически разработано и практически испытано в 1936 г., но имело как минимум одинарное просветление. В годы войны для получения качественного просветления использовались образцы сосновой живицы, обладающей влагоустойчивыми свойствами. Так, в стекольных лабораториях ГОИ советские ученые разработали новые методы просветления оптики, а технология просветления оптических деталей с помощью однослойного покрытия внедрена на заводе № 354.
Помимо прочего, за 1942–1945 гг. сотрудниками лаборатории были разработаны новые оптические стекла: сверхтяжелые кроны и тяжелые баритовые флинты. Большое промышленное значение имели работы по изменению метода перемешивания стекломассы. Разработанные скоростные режимы и конфигурации мешалок были внедрены при заводских плавках. Внедрение нового способа размешивания позволило во время войны повысить выход бессвильного стекла и благодаря этому удовлетворить потребность страны в оптическом стекле14.
Еще одна отраслевая лаборатория стекла ГОИ под руководством профессора Владимира Владимировича Варгина в Йошкар-Оле выполняла военный заказ по разработке специального черного стекла для обеспечения видимости в темноте без демаскировки наблюдателя. Данные стекла в 1944 г. были внедрены на стекольном заводе «Красный май» (пос. Красномайский, Калининская область).
Увеличение объемов выпуска оптических материалов в военные годы было невозможным без совершенствования и развития методов и средств контроля и аттестации продукции, применения высокоточных измерений параметров и характеристик оптических материалов: показателя преломления, дисперсии, коэффициентов пропускания, рассеяния и прочего. Находясь в Йошкар-Оле, по требованию промышленности наряду с огромным количеством проводимых измерений параметров оптических материалов в лаборатории А. И. Стожарова выполнялись работы по повышению точности и скорости измерений, достоверности получаемых результатов, а также по восстановлению спеканием расколотых больших заготовок из оптического стекла. Также в области создания оптических материалов были проведены работы по ускорению процессов варки и обработки оптического стекла.
Еще в конце 1941 г. после нескольких победных реляций лучшие труды ученых ГОИ были выдвинуты на соискание Сталинских премий в области открытий и изобретений, которые характеризуются научной новизной и имеют значительную экономическую эффективность для СССР. В 1942 г. лауреа- тами Государственной премии СССР стали: академик И. В. Гребенщиков – за исследование «Просветление оптики и незапотева-ние стекла», член-корреспондент Академии наук СССР А. И. Тудоровский и доктор физико-математических наук Г. Г. Слюсарев – за аэрофотооптику, научный сотрудник Г. М. Брумберг – за ультрафиолетовый микроскоп, доктор технических наук А. А. Гершун и кандидат технических наук И. Б. Левитин – за работу «Маскировка подводных лодок» [13, с. 96; 14, с. 71–76].
В Йошкар-Оле лабораторией спектрального анализа под руководством профессора В. К. Прокофьева была выполнена работа по изучению ИК-спектра органических молекул, по результатам которой были обследованы десятки боевых отравляющих веществ.
Лаборатория ИК-лучей под руководством М. А. Вейнгерова занималась селективными оптико-акустическими приемниками (ОАП), на основе которых был разработан прибор «Спектрофон» для исследования ИК-спектров поглощенных газов. В ГОИ раньше, чем в других лабораториях мира, начали заниматься разработкой и исследованием полупроводниковых болометров (приборов для обнаружения и измерения энергии электромагнитного излучения, главным образом инфракрасного), и во время войны были выполнены исследования нового типа тепловых приемников – сажевых болометров (измерение уровня загрязнения).
В эвакуации с большим успехом осуществлялась научная деятельность в светотехнической лаборатории (естественного и искусственного освещения), руководителем которой являлся Андрей Александрович Гершун. Его основные работы довоенного периода связаны с развитием теоретической фотометрии и с вопросами различного использования энергии светового излучения.
В 1940 г. А. А. Гершуну отделом изобретений НКВ СССР было выдано авторское свидетельство на разработку поляризационной системы в приборах для корректировки с самолета огня артиллерии15. В 1941 г. он опубликовал работу об одной из фундаментальных величин – мере множества лучей. Ряд областей практического применения теории светового поля, такие как техника светового освещения или гидрооптика, стали со временем самостоятельными отраслями науки и техники. А. А. Гершун со своими сотрудниками создали различные типы гидрофотометров и другой оптической аппаратуры для измерения коэффициента яркости, прозрачности, индикатрис рассеяния (фазовая функция в теории рассеивания света) и поляризации морской воды, разработал специальные подводные лампы. Являлся организатором и активным участником длительных морских походов. Основные результаты его гидрооптических работ опубликованы в монографии «Прозрачность и цвет моря» (1940), опубликованной в Ленинграде Военно-морской академией имени Клима Ворошилова.
Таким образом, работы ГОИ по гидрофотометрии, производившиеся под руководством А. А. Гершуна как до войны, так и во время нее, дали многое для физики моря и послужили основой решения важных военных задач.
Буквально за год до начала войны в светотехнической лаборатории А. А. Гершу-ном было положено начало новой прикладной науки – строительной светотехники.
Примерами практических результатов могут служить рациональное освещение темных цехов кинопленочных фабрик и составление эскизного проекта внутреннего освещения грандиозного здания Дворца Советов (проект не реализован) [3].
В лаборатории физико-химических равновесий А. Г. Самарцевым с группой сотрудников в 1942 г. проведен цикл работ по изучению механизма роста окисных пленок на металлах, которые легли в основу решения практических задач, необходимых оптико-механической промышленности (чер- нение медных сплавов, воронение стали), и повышению химической стойкости и механической прочности алюминиевых зеркал дальномеров и других оптических приборов. Во время войны резко увеличился выпуск ламп и трубок, особенно для военного потребителя. Разрабатывались и изготавливались спектральные лампы, специальные лампы накаливания и другие источники света – этим занималась лаборатория источников света.
В первые дни войны, прежде чем первый эшелон отправился в Йошкар-Олу, коллектив ГОИ проявил организационную зрелость и действенный патриотизм. После официального объявления о мобилизации, не получив еще повестки, ученые отложили до лучших времен микроскопы, телескопы и отправлялись туда, где нужны Родине.
Перед оставшимися учеными-физиками филиала ГОИ в Ленинграде также были поставлены задачи, по-видимому, нерешаемые. В условиях практически полной изоляции от ресурсной базы необходимо было осуществлять жизнеобеспечение фронта и осваивать азы гражданской обороны в тяжелейших условиях блокады.
Научно-производственная деятельность Ленинградского филиала ГОИ началась 18 июля 1941 г., когда в ГОИ под председательством С. И. Вавилова состоялось межведомственное совещание по светомаскировке. Необходимость совещания была вызвана тем, что город стал жить в условиях строгого затемнения. Для возможности работы на открытых местах, для ориентации в городе в вечернее время нужны были средства, заменяющие освещение. Такими могли быть системы знаков и надписей, заметных вблизи, но невидимых с воздуха. На совещании присутствовали представители Штаба местной ПВО ленинградских производственных предприятий, сотрудники ГОИ: Е. М. Брумберг, В. В. Варгин, А. А. Гершун, М. М. Гуревич, С. И. Левиков, Б. Я. Свешников, Д. Н. Лазарев и др. В результате были принято решение о производстве в Ленинграде необходимых материалов, в первую очередь специальных ламп черного света и люминофоров (светящиеся в темноте краски). Массовое изготовление светящихся знаков разного назначения, например нагрудных значков для пешеходов, было организовано филиалом ГОИ в Обществе художников «Ленизо». Особенно большое применение получили именно светящиеся краски.
Уже с конца июля 1941 г. жизнь и работа ГОИ осуществлялась на два фронта: в Йошкар-Оле и в Ленинграде. Перед началом войны численность сотрудников оптического института в Ленинграде составляла 1 150 чел. После отъезда основного состава сотрудников в Йошкар-Олу на территории института осталось 105 чел. Решением Ле-нисполкома горсовета и Военсовета Северного фронта директор ГОИ Д. П. Чехматаев был обязан на время войны в Ленинграде в помещениях некогда большого института оставить коллектив научных сотрудников с частью оборудования для решения местных проблем – квалифицированного решения вопросов маскировки городских объектов. Так в июле 1941 г. был организован Ленинградский филиал ГОИ.
Должность руководителя занял заместитель директора ГОИ научный сотрудник института Салам Петрович Тибилов (в дальнейшем доктор наук, начальник отдела фотоприемных устройств ИК-диапазона). В конце августа 1942 г., когда проводилась принудительная эвакуация из Ленинграда всех, кто уже не мог работать, тяжело больной С. П. Тибилов был отозван в Йошкар-Олу, а на посту заместителя директора Ленинградского филиала ГОИ его сменил Аркадий Наумович Бужинский – руководитель группы по ремонту и модернизации имевшихся в частях ПВО зенитных дальномеров.
7 августа 1941 г. закончилась эвакуация института в Йошкар-Олу, а к концу месяца начались артиллерийские обстрелы района, систематические налеты авиации противника. Ленинград стал городом-фронтом, начал готовиться к уличным боям. На доме № 14 по Биржевой линии была оборудована наблюдательная площадка, окна второго этажа дома № 16 были заложены белым шамотным кирпичом и превращены в амбразуры. Воздушные тревоги следовали иногда одна за другой. Филиал стал военным объектом, для защиты которого из числа тех же сотрудников были созданы команды МПВО (противопожарной и местной противовоздушной обороны). В организованном отряде проводилась «военная подготовка без отрыва от производства с пребыванием людей на казарменном положении». В сентябре 1941 г. немцы перерезали последнюю дорогу из Ленинграда. Кольцо блокады замкнулось. С этого времени еще одной задачей военных и бойцов МПВО ленинградского филиала ГОИ была поимка шпионов-ракет-чиков16.
Составленный в первые недели войны план научных исследований филиала ГОИ включал четыре основных направления работ, которые отвечали срочному призыву о необходимости тем делу обороны страны, академиков А. А. Байкова, А. Е. Фаворского, В. В. Струве, А. А. Ухтомского, опубликованному 5 июля 1941 г. «Ленинградской правдой».
Научно-прикладные работы в Ленинградском филиале ГОИ распределились следующим образом: дальномерная с задачами ремонта и модернизации всех имеющихся в ПВО Ленинградского фронта зенитных дальномеров была закреплена за А. Н. Бужинским; за контроль оптического качества маскировочных покрытий отвечал Е. К. Пуцейко; маскировкой и камуфляжем кораблей руководил Н. Г. Болдырев; разработка и выпуск полетных очков ГОИ была возложена на А. К. Клипина и В. А. Осипова.
Часть площадей ГОИ была занята Военно-морским госпиталем, из-за чего огромная часть бесценной литературы и оборудования института была уничтожена или потеряна. Большая столовая ГОИ была отдана под мастерскую по ремонту авиамо- торов. Несмотря на территориальное перемещение и военное время, ГОИ оставался ведущей научно-отраслевой организацией по отношению к оптико-механической про-мышленности17.
Основной задачей руководства филиала в этот период было спасение людей, обеспечение электроэнергией и теплом, в чем активно помогали управление Ленинградского фронта, штаб Краснознаменного Балтийского флота и Отдел оборонной промышленности Ленинградского горкома КПСС.
Положение института резко ухудшалось. Редели ряды сотрудников, существование филиала ГОИ было под вопросом. При этом работа филиала все же давала значительную помощь, что подтверждало командование Ленинградского фронта. Ситуация стала меняться в лучшую сторону лишь в феврале 1942 г., когда открылась «дорога жизни» по льду Ладожского озера. Редко, но случалось, что из Йошкар-Олы приходила и иная гуманитарная помощь. «…В ящике институтском (на имя Е. И. Ежовой) – 300 гр. сала, немного лука и пять головок чеснока. И что “по мелочи” – кружка алюминиевая или эмалированная, нитки, иголки, мыло и т. п. И дефицитная дратва ‒ для ремонта (прошивки) обувной подошвы и прочего»18.
Филиал ГОИ обеспечивал необходимыми приборами зенитные части армии ПВО Ленинградского фронта. В июле – августе 1941 г. сотрудниками группы была проведена большая работа по инструктажу личного состава батарей и проверке состояния оптических зенитных дальномеров и стереовысотомеров, находившихся непосредственно на огневых позициях. При этом часто до зенитчиков приходилось добираться под обстрелом, а иногда проводить ночь возле пушек бронепоезда.
С начала блокады Ленинград подвергался регулярным бомбардировкам. Чтобы сохранить город, необходимо было не только защитить людей, но и скрыть памятники архитектуры, а также объекты военностратегического значения от воздушной и наземной разведки противника, от визуально-оптического наблюдения и фотографирования. Маскировка оборонных и стратегически важных элементов стала первоочередной задачей группы контроля оптического качества маскировочных покрытий МПВО ГОИ. В целом укрытие и стратегических объектов, и объектов культурного наследия до полного снятия блокады координировало Архитектурно-планировочное управление Ленсовета (АПУ), которое возглавлял Николай Варфоломеевич Баранов. Среди сотрудников филиала ГОИ данным вопросом занимались следующие специалисты под руководством Е. К. Пуцейко: Л. С. Друскина, М. В. Савостьянова, Н. И. Сперанская и многие другие.
Основная задача оптической маскировки заключалась в том, чтобы, по возможности, уменьшить контрасты между объектом и окружающим его фоном и добиться невидимости или по крайней мере незаметности объекта. Деятельность группы филиала была направлена на контроль оптического качества маскировочных материалов и покрытий в летних, осенних, зимних условиях с целью исключения возможности обнаружения противником особо важных объектов города (Смольный институт, Ленинградский и Витебский вокзалы, гостиница «Астория»). При условии, что каждый из упомянутых периодов года отличается характерными спектральными кривыми коэффициента отражения преобладающего покрова, под который должны быть подобраны искусственные маскировочные материалы.
Для эффективной маскировки требовалась специальная не дешифруемая краска и дополнительные колеры камуфляжных красок. В довоенный период в Ленинграде функционировал один небольшой химический завод, который занимался выпуском бытовых красок, растворителей, закрепителей и т. д. Он был переориентирован на нужды обороны города в первую очередь.
Исследуя окраску листьев деревьев, кустарников и трав осенней поры с многообразием цветных оттенков, сотрудники филиала ГОИ вместе с представителями около десяти предприятий Ленинграда (гардинно-тюлевая фабрика, институт коммунального хозяйства, Лесотехническая академия, Гипроцемент, Ботанический институт и др.) подобрали соответствующие покрытия, которые продемонстрировали свою надежность. Подобная работа была проведена и по подбору белых маскировочных материалов под снежный фон, которая оказалась не такой уж простой. Стоит отметить, что сотрудникам ГОИ очень пригодился собственный опыт светомаскировки, приобретенный во время недавней войны с Финляндией. Качество маскировочных покрытий при этом определялось сравнением спектральных коэффициентов отражения различных материалов и фона, на котором объект должен быть замаскирован; при этом коэффициенты отражения измеряли по спектру не только в видимой, но и в ультрафиолетовой и инфракрасной областях. Это был технический успех!
Сохранение основных боевых единиц и вспомогательных судов Балтийского флота являлось направлением работы еще одной группы филиала ГОИ, занимавшейся камуфляжем и маскировкой. В первую очередь в октябре 1941 г. было важно сохранить часть кораблей Балтики, которые находились практически в черте города, в дельте Невы. По просьбам командования Ленинградского фронта и Балтийского флота сотрудникам филиала предстояло укрыть от вражеской авиации линкоры «Марат», «Октябрьская революция», крейсер «Киров» и ряд других судов.
В очень короткие сроки учеными ГОИ была проведена исследовательская работа под руководством Н. Г. Болдырева, на основе результатов которой была составлена исчерпывающая инструкция по искажающему окрашиванию и маскировке кораблей в осенний период. Научно обоснованная инструкция была одобрена и утверждена командованием Балтийского флота. Затем в короткие сроки силами группы были замаскированы и закамуфлированы три корабля, которые находились в различных местах в черте города.
В период Второй мировой войны применялась классическая шаровая окраска и различные сложные схемы камуфляжа кораблей. В дело шла бутафорская маскировка с использованием различных дополнительных элементов, имитирующих береговые строения или даже корабли противника. Хитрость камуфляжа заключалась в создании оптической иллюзии, сбивающей с толку врагов, в затруднении с определением курса и точной скорости корабля.
На сегодняшний день опыт разработки и применения средств маскировки на протяжении всей блокады Ленинграда представляет большую научную и практическую ценность.
В составе группы Е. К. Пуцейко успешно осуществляла близкую по направлению работы деятельность подгруппа под руководством Д. Н. Лазарева. Их задача заключалась в оборудовании боевого и аварийного освещения на военных кораблях, а также устройстве маскировочного освещения на особо важных городских объектах с помощью светящихся составов. В числе успешно выполненных работ ‒ работы на эсминце «Свирепый», крейсере «Киров» и линкоре «Октябрьская революция».
В сложившейся военной обстановке филиал ГОИ сыграл значительную роль в обеспечении личного состава ВВС Красной армии лётно-техническим обмундированием (ЛТО) – полетными очками. Благодаря конструкции усовершенствованных полетных очков специальная группа филиала ГОИ под руководством А. К. Клипина и В. А. Осипова доработала собственную специальную технологию для данных требований, которая гарантировала отличное зрение при любых высотах и условиях освещения.
По специальному заданию командования Краснознаменного Балтийского флота небольшая группа сотрудников лаборато- рии научной фотографии под руководством А. К. Клипина систематически занималась ремонтом фотоаппаратуры для подводников. Сотрудники ГОИ разработали и изготовили образец портативной фотокамеры для съемок через перископ подводной лодки. Конструкция позволяла фотографировать результаты боевых действий с лодки с выдержкой 1/100 с.
В конце 1942 г. Советская армия столкнулась с проблемой отсутствия возможности съемки переднего края обороны противника с широким углом обзора. Хорошо выполненные фотографии позволяли бы более подробно изучать интересующие командование детали объектов противника. Основная научно-техническая разработка проблемы осуществлялась специалистами-оптиками в Йошкар-Оле.
В феврале 1943 г. Ленинградский филиал ГОИ начал осваивать образец разведывательного панорамного фотоаппарата (РПФ) дальнего действия. Работа была поручена Штабом КБФ и Ленфронтом инициативному инженеру филиала ГОИ, председателю месткома Александру Казимировичу Вой-чунасу. В результате за выполнение боевого задания А. К. Войчунас 18 октября 1943 г. был награжден медалью «За оборону Ле-нинграда»19.
Прибывшие из Йошкар-Олы в начале 1942 г. сотрудники К. А. Вентман, А. А. Миляков, Н. Э. Ритынь привезли новые образцы панорамных перископических длиннофокусных аппаратов. К. А. Вентма-ном по заданию командования Ленфронтом был заснят передний край обороны противника на Невском участке Ленинградского фронта. Эта работа позволила вскрыть оборону противника с его инженерными сооружениями. Были также обнаружены несколько наблюдательных постов противника, которые ранее не выявлялись из-за хорошей маскировки.
Великая Отечественная война крайне осложнила работу высших научных школ, в том числе Государственного оптического института: одни сражались на фронте, другие оказались в блокаде противника и не выдержали адских условий жизни, бо́льшая часть эвакуированы. Это был трагический период, содержание которого определялось не столько собственно научными, сколько историческими, политическими и идеологическими факторами. Так, за первые два года блокады Ленинграда в городе было осуждено от 200 до 300 сотрудников ленинградских вузов и членов их семей, в том числе представителей ГОИ, за «антисоветскую, контрреволюционную, изменническую деятельность». В ходе следствия по делам ленинградских ученых были получены клеветнические показания на академиков Д. С. Рождественского, А. А. Байкова, Е. В. Тарле, членов-корреспондентов Академии наук СССР Т. П. Кравеца, Н. Н. Качалова, на профессора В. Н. Чуриловского и др. Многие не избежали ареста. Но тяготы этой суровой поры не помешали творческой и научной работе коллектива ГОИ.
С достоинством выполняя возложенные обязанности отраслевого института, ГОИ в эвакуации продолжал играть существенную роль в определении научно-исследовательских приоритетов как учебное заведение. Несмотря на военное положение, сохранилась традиция созыва коллегиального органа – ученого совета, в состав которого входили опытные и квалифицированные ученые, представляющие различные научные области и дисциплины.
В 1943 г. состоялось очередное заседание ученого совета ГОИ в Йошкар-Оле. Среди присутствующих: М. В. Савостьянова, А. Г. Самарцев, В. В. Варгин, Г. П. Фаерман, В. П. Линник, Т. П. Кравец, А. А. Гершун, И. В. Гребенщиков, И. В. Обреимов, М. Л. Вейнгеров, Л. Н. Скрипкарь, В. А. Вейденбах, Л. Н. Гассовский, К. Г. Куманин, С. И. Вавилов, Д. П. Чехматаев, А. И. Тудоровский, А. Н. Теренин, М. А. Резунов, А. И. Стожаров, Г. Г. Слюсарев, К. С. Евстропьев и др. Ввиду войны для определения будущих и настоящих научно-исследовательских приоритетов ученый совет провел анализ на- учной ситуации как на широком научном уровне, так и в масштабе института.
Как и в начале войны, так и в 1943 г. пограничные войска, пехота, артиллерия, танковые войска, авиация, воздушно-десантные войска, военно-морской флот, подводные лодки, инженерные войска, связисты – всем жизненно необходим был результат научной работы вавиловского института, который с достоинством противостоял жесточайшей конкуренции с германским «Карл Цейс» – тогдашним мировым лидером в области оптики. В годы войны Государственный оптический институт не просто соревновался с противником, но и во многом превосходил его, как превзошли его наши отечественные танкостроители и самолетостроители.
Слаженность в работе коллектива ГОИ (филиалов в Ленинграде и Йошкар-Оле), а также активное взаимодействие с оптической промышленностью в решении неотложных задач позволило добиться неплохих результатов. К тому же большую роль в оптическом приборостроении сыграл сам С. И. Вавилов, будучи назначенным во второй половине апреля 1943 г. уполномоченным Государственного комитета обороны по оптической промышленности. В течение двух лет он осуществлял координацию работ по военной оптике.
В июне 1943 г. особенно проявилась деятельность новых форм организации науки (научные советы при ГКО) на правительственном уровне, что способствовало научному обеспечению нужд фронта, повышало эффективность исследований и ускоряло их внедрение в производство. Так, руководителем по развитию и координации научной работы в области инфракрасной техники при ГКО был назначен С. И. Вавилов. Будучи одной из ключевых фигур в разработке и выпуске оборонной продукции, академик отчасти наделялся функциями наркома науки [2, с. 49–52].
Одномоментно в ГОИ были установлен новый приоритет – ИК-системы управления и наблюдения. Ставилась задача разработать и наладить выпуск новых приборов ночного видения (ПНВ).
С началом войны в ГОИ разработка ИК-приборов ночного видения для флота, авиации, танковых и инженерных войск стала находиться на особом контроле. Один из первых всплесков советского научно-технологического прогресса в области ИК-техники произошел в 1943 г., когда немецкие «Пантеры» получили экспериментальные ночные прицелы, работающие в паре с массивными инфракрасными прожекторами, и телескопические дальномеры.
Тогда для облегчения движения танков в условиях плохой видимости коллектив Государственного оптического института под непосредственным руководством С. И. Вавилова и А. А. Лебедева совместно с сотрудниками завода № 237 и ВЭИ провел работы по созданию ночных активных инфракрасных приборов – подсветочных светосигнальных приборов для вождения танков в колоннах. Конструкторами завода № 237 Гладилиным и Коневым работы по созданию приборов ночного видения к танкам Т-34 продолжались до осени 1944 г. Также осуществлялись работы по исследованию и применению инфракрасных телескопов и многое другое20 [15, с. 74–77].
Таким образом, разработка инфракрасной техники способствовала ведению разведки на расстоянии в темноте, фотографированию в ИК-лучах с целью выявления деталей, невидимых в обычных условиях, и т. д. Полученные при проектировании, изготовлении и испытаниях результаты были использованы при создании приборов ночного видения в первом послевоенном периоде. Благодаря ИК-технике были решены задачи инженерной разведки, наблюдения за передним краем обороны, обеспечения переправ, наблюдения из дотов и дзотов и многое другое.
В декабре 1943 г. Государственный оптический институт стал одним из героев корпоративного издания «Известия Советов депутатов трудящихся СССР» (17 декабря 1943 г.). Так случилось, что ГОИ встре- тил 25-летний юбилей в суровых условиях военного времени.
В статье «Советская оптика на службе фронту» говорилось: «Государственный оптический институт разработал научные основы производства оптических приборов и оптического стекла и активно способствовал количественному и, главное, качественному росту нашей оптико-механической промышленности… Институт дал много нового, важного и ценного, особенно в дни Великой Отечественной войны, для укрепления боевой техники Красной Армии».
Условия военного времени не дали возможности должным образом подвести итоги первых 25 лет работы института. К юбилейной дате был издан скромный сборник «Двадцать пять лет Государственного оптического института», в который вошли всего три статьи: «Четверть века Государственного оптического института» Д. П. Чехмата-ева, «Творческая работа Государственного оптического института (к 25-летию основания ГОИ)» С. И. Вавилова и «Памяти Д. С. Рождественского» Т. П. Кравеца [5].
Характеризуя 25-летнюю историю Государственного оптического института, директор Д. П. Чехматаев уделил основное внимание его роли в становлении оптикомеханической промышленности страны. С. И. Вавилов представил обзор и анализ теоретической, а по существу, научно-исследовательской стороны деятельности ГОИ, показывая в ряде случаев ее связь с прикладными и техническими задачами. Статья Торичана Павловича Кравеца была посвящена памяти Д. С. Рождественского, основателя и первого директора ГОИ [8, с. 338–349].
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 декабря 1943 г., опубликованным в газете «Правда» от 17 декабря, за выдающиеся изобретения и коренные усовершенствования методов производственной работы ряду сотрудников ГОИ были присуждены Сталинские премии: 19 орденов «Знак почета», 11 медалей «За трудовую доблесть», 9 медалей «За трудовое отличие».
В результате Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции 1944 г. была окончательно снята блокада Ленинграда. Многие сотрудники Ленинградского филиала ГОИ были награждены медалями «За оборону Ленинграда».
После того как в марте 1943 г. в связи с коренным переломом в ходе войны началась реэвакуация академических учреждений в Москву, вопрос о возвращении коллектива ГОИ в Ленинград становился все актуальнее. К концу 1943 г. деятельность ГОИ была направлена на придание оборонной тематике фундаментального характера. Научно-исследовательская деятельность постепенно начинала возвращаться в мирное русло, тематика исследований стала приближаться к исследованию отраслевых проблем, соприкасаясь с основными направлениями довоенной научной работы. Здесь следует говорить о работах «Оптика в военном деле» М. В. Савостьяновой совместно с С. И. Вавиловым (всего вышло три издания – в 1934, 1945, 1948 гг.), «Справочник по военной оптике» (издан в 1946 г.), сборник, содержащий работы ученых А. Н. Крылова, С. И. Вавилова, Н. Н. Лузина, С. Я. Лурье, Н. Г. Чеботарева, Г. Г. Слюсарева, И. А. Хвостикова, Н. И. Идельсона, Л. Н. Сретенского, А. Д. Дубяго, М. В. Кирпичева и др.21 [4, с. 79–86].
Стоит отметить, что в переломный период Второй мировой войны в СССР было издано пять книг к 300-летию Исаака Ньютона. Главным результатом передовой научной мысли в области истории науки стала биография «Исаак Ньютон», написанная С. И. Вавиловым [1].
В связи с необходимостью стабильной работы промышленных предприятий в восточных регионах весной 1944 г. сохранялся запрет на реэвакуацию в Москву и Ленин- град. Однако руководство ГОИ в Йошкар-Оле всерьез задумывалось о ближайшем будущем, о возвращении института и о том, каким он должен стать в послевоенные годы. Снова и снова рассматривалась идея комплексного подхода и единой науки ГОИ, которая приобрела новое звучание и подтверждалась примером объединения научных работ и ученых по проблемной тематике.
Переломный период на фронте совпал с переломным пунктом в развитии советской школы люминесценции. К тому времени в ГОИ вновь вернулись к разговору о необходимости координации научной деятельности в этой сфере ввиду широкого интереса к ней физиков, химиков, геологов, биологов и других специалистов. В октябре 1944 г. в Москве было созвано 1-е Всесоюзное совещание по люминесценции, охватывающее все ее разделы. Охват аудитории – 300 чел. из более чем 100 учреждений. Программа включала 20‒30 докладов, направленных на решение задач народного хозяйства и техники. Лидерами в разработке важнейших направлений люминесценции по-прежнему оставались ГОИ, ФИАН и ВЭИ.
В результате совещание сыграло мобилизующую роль, поскольку работы по теории люминесценции стали развиваться значительно шире, что повлекло за собой возникновение новых направлений, новых лабораторий [10, с. 241–250].
Таким образом, трудности военного времени не смогли приостановить совещательную работу ГОИ даже в Йошкар-Оле. Не без участия представителей института для координации работ по люминесценции при Отделении физико-математических наук АН СССР была создана специальная комиссия, руководителем которой был назначен С. И. Вавилов. География исследований значительно расширилась: в Сыктывкаре – на севере, в Оше – на юге, в Чите и других многочисленных городах Сибири и Средней Азии. Первоначальная цель ГОИ была достигнута – совещания приобрели традиционный характер.
Тем временем ускоренное развитие и координация научной работы в области инфракрасной техники способствовала постановке вопроса о создании отечественной радиолокации. Была создана государственная комиссия, которую возглавлял академик Асель Иванович Берг. В комиссии работали представители всех оборонных отраслей, в том числе из ГОИ. Цель работы комиссии – контроль качества отработки систем улавливания самолетов и автоматического наведения зенитных пушек.
Реэвакуация ГОИ в Ленинград началась в соответствии с приказом наркома вооружения СССР Д. Ф. Устинова от 28 марта 1945 г.: «Директору товарищу Чехматаеву реэвакуировать в апреле 1945 года Государственный оптический институт из г. Йошкар-Ола в г. Ленинград».
Вечером 8 мая 1945 г. ГОИ двинулся в обратный путь. По дороге, не доезжая до Зеленого Дола, коллектив узнал об окончании войны. «Оптическому, как и всей стране, была необходима “великая научная идея”. Начиналась новая эра на свете», – писал в дневнике С. И. Вавилов по пути в Ленинград. День Победы реэвакуированный коллектив ГОИ встретил в Москве, а утром 13 мая уже были в Ленинграде.
Основной состав института, эвакуированный в глубокий тыл, ко времени окончания войны не только сохранил полную трудоспособность, но был полон творческих планов послевоенного развития оптической науки и техники. Ленинградский филиал, с честью выполнивший возложенную на него трудную задачу, сохранил почти полностью весь состав. Потери среди призванных в армию, ушедших добровольцами на защиту Родины и скончавшихся от болезней и трудностей военного времени в тылу, хотя и были тяжелы, не подорвали научный потенциал института.
После возвращения ГОИ в родной Ленинград С. И. Вавилов, избранный президентом Академии наук СССР (ранее пост занимал В. Л. Комаров), был вынужден пе- реехать в Москву. Однако его связь с ГОИ не прекратилась. Он сохранил в ГОИ свою лабораторию и ежемесячно приезжал на несколько дней в Ленинград – знакомиться с результатами, обмениваться информацией научного и прикладного характера и проводить семинары.
Несмотря на трудности военного времени, научный потенциал Государственного оптического института в основном был сохранен. Слаженная работа коллектива ГОИ позволила быстро и оперативно реагировать на вызовы времени, тем самым отвечая на выдвинутые войной задачи. За годы войны оптическими приборами были оснащены сотни тысяч орудий, самолетов, танков, самоходок и минометов. Поставлено на фронт громадное количество биноклей и прицелов для снайперских винтовок. Удовлетворены запросы армии и флота в оптических приборах для различных целей.
Достижения оптико-механической промышленности, как и всей военной промышленности, явились результатом тесного единения науки и производства, плодом творческой мысли советских ученых, напряженного труда рабочих, техников и инженеров. Творческий деловой контакт ученых ГОИ с директорами, главными инженерами, главными конструкторами, главными технологами предприятий, характерный для оптико-механической промышленности предвоенных лет, не был нарушен тяготами войны и послужил залогом успешного решения возложенных на отрасль задач.
Честь и слава коллективу Государственного оптического института и работникам оптико-механической промышленности, внесшим свой вклад в великое дело Победы!
Заключение
Российская оптика накануне и в годы Великой Отечественной войны прошла путь от становления до массового серийного производства, обеспечив потребности фронта в ключевых оптических приборах. В годы войны была сформирована система взаимодействия научных центров и произ- водственных предприятий, что позволило увеличить выпуск оптической продукции в несколько раз по сравнению с довоенным уровнем.
Особое место в данном процессе занял Государственный оптический институт (ГОИ), выступавший в качестве научнометодического, технологического, а также координационного ядра отрасли. Именно здесь были разработаны новые марки оптического стекла, усовершенствованы системы прицелов и приборов наблюдения, внедрены методики ускоренной проверки оптики. Деятельность ГОИ в военные годы стала одним из ключевых факторов сохранения устойчивости и развития оптической промышленности, определив ее дальнейшее послевоенное развитие.