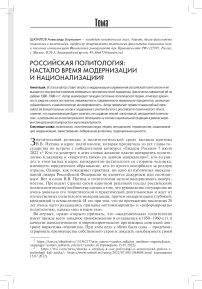Российская политология: настало время модернизации и национализации?
Автор: Шатилов Александр Борисович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Тема
Статья в выпуске: 4, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье автор ставит вопрос о модернизации современной российской политологии и ее выходе из-под жесткого влияния либерально-прогрессистской парадигмы, фактически навязанной ей на рубеже 1980-1990-х гг. Автор анализирует текущее состояние политической теории, отмечает архаичность ряда ее схем и постулатов, неадекватность современности иерархии ее приоритетов, излишнюю субъективность и идеологическую ангажированность. Автор предлагает провести масштабный пересмотр ее концептуальных основ и содержания с учетом богатого российского политического опыта, отмечая, что национализация будет означать не создание некоей «автономной, автаркичной политологии», а раскрытие ее интеллектуального потенциала на основе национальной традиции в рамках мировых трендов многополярности и мультикультурности.
Политология, политическая наука, теория, методология, терминология, национализация, модернизация, заимствования, либеральная догматика, традиционные ценности
Короткий адрес: https://sciup.org/170195213
IDR: 170195213 | DOI: 10.31171/vlast.v30i4.9116
Текст научной статьи Российская политология: настало время модернизации и национализации?
З начительный резонанс в политологической среде вызвала критика
В.В. Путина в адрес политологии, которая прозвучала из уст главы государства на встрече с победителями конкурса «Лидеры России» 7 июля 2022 г.1 Кто-то усмотрел в этих словах желание власти превратить политологию в лженауку и «закрутить гайки» на данном направлении2, кто-то увидел в этом выпад в адрес конкурентов-политологов со стороны человека, имеющего юридическое образование, кто-то просто оскорбился за родную отрасль. Однако, как показывает практика, ни одно из публичных высказываний лидера Российской Федерации не является дежурным или спонтанным. Вот и слова В.В. Путина о политологии нельзя воспринимать поверхностно. Президент страны своей короткой репликой послал российскому политологическому сообществу сигнал о том, что руководство государства не очень довольно его теоретической и практической деятельностью и ждет от отечественных политологов модернизации, причем модернизации глубокой, креативной и осмысленной. И это при том, что на протяжении последних 20 лет очень часто раздавались призывы «оптимизировать» и «реформировать» политологию, однако «воз и ныне там».
Во-первых, нужно открыто признать, что «академическая» политология имеет прежде всего западное происхождение и создавалась в 1950–1960-е гг. в качестве идеологического и мировоззренческого противовеса советской доктрине марксизма-ленинизма. При этом цель у обеих была одна – продемонстрировать преимущества собственного строя и доказать неизбежность своей конечной победы и крушения оппонента. Так, марксизм-ленинизм на основе «объективных научных данных» прогнозировал «неизбежное» (!) крушение «прогнившего» капитализма и «буржуазной демократии», которые призвана заместить коммунистическая формация. В свою очередь, западной политологии было поручено доказать как раз обратное – опять же «неизбежный» (!) крах «советского тоталитаризма» и наступление (через этап «демократического транзита») эпохи либеральной демократии (дополненной в 1990-е гг. теорией либеральной глобализации). На это были направлены все интеллектуальные силы западной политологии – от Х. Арендт до Ф. Фукуямы, от Т. Парсонса до Л. Даймонда, от А. Лейпхарата до Р. Гудина. Более того, эта точка зрения была основана на жестком «прогрессистском» подходе, исходившем из передового характера западной цивилизации и догоняющего пути развития остальной мировой «периферии». То есть, любые отклонения от западных политических стандартов и лекал трактовались «с теоретической точки зрения» в качестве девиантных аномалий, требующих обязательного устранения и приведения к общему знаменателю. И в этом плане Россия, которая в начале нулевых годов сделала выбор в пользу государственного суверенитета и собственного оригинального пути развития, с точки зрения западной прогрессистско-либеральной парадигмы является «девиантной» и «недемократической». То есть, уже в самих основах подобной политической теории, которую до сих пор преподают в российских вузах, заложены антироссийские тренды и посылы.
Во-вторых, с учетом того, что академическая политология в основном создавалась в 1960–1970-е гг., она устарела в структурном и содержательном плане. Взять хотя бы партологию. Основные учебники (как отечественные, так и западные) нам до сих пор доказывают, что политические партии есть «организации, которые, во-первых, стремятся, прежде всего, к захвату власти или участию в ее отправлении и, во-вторых, опираются на поддержку широких слоев населения» [Джанда 2008: 106]. Конституция РФ дает более современное, аккуратное и точное определение политической партии: «Политическая партия – это общественное объединение, созданное в целях участия граждан Российской Федерации в политической жизни общества посредством формирования и выражения их политической воли, участия в общественных и политических акциях, в выборах и референдумах, а также в целях представления интересов граждан в органах государственной власти и органах местного самоуправления»1. Однако, признавая определенное значение политических партий в жизни современных государств, нужно отдавать себе отчет, что в современной политологии их роль в системе управления переоценена, что они достаточно жестко встроены во внутриэлитные отношения и их взаимосвязь с избирательными системами является весьма относительной.
Более того, в современной политологии можно найти массу весьма архаичных, а то и примитивных сюжетов – вроде типологии лидерства (лидер-пожарный, лидер-знаменосец и пр.) или же политической культуры. Классики политической культуры, от Г. Алмонда и С. Вербы, выделяли политическую культуру патриархальную, подданническую, активистскую (а также ее «идеальный» вариант – культуру гражданственности). И если на заре развития российской политологии это воспринималось как откровение и новое слово в науке, то спустя десятилетия такие упрощенные схемы вызывают лишь скептическое отношение .
В-третьих, современная западная политологическая догматика подразумевала и подразумевает откровенную борьбу с традиционными ценностями. Это ощутимо даже на уровне терминологии. Так, понятия семьи, брака, верности и любви подменяются деструктивными по содержанию терминами «гендер», «феминизм», «сексуальная идентичность», «половые связи» и пр. Одновременно под ее ударом находятся понятия «Родина», «национальные интересы», «патриотизм», «межнациональная дружба». Им прямо или косвенно противопоставляются весьма двусмысленные, а то и откровенно деструктивные (по крайней мере, для России) термины «общечеловеческие ценности», «глобализация», «цивилизованные страны», «толерантность». Особенно жестко такие императивы стали продавливаться в политической науке в последние 15–20 лет, когда к власти на Западе пришли неолибертари-анские элиты с проектом кардинального (и принудительного) переустройства общества на основе постмодернистских и трансгуманистических приоритетов. В западных обществах наблюдается явный кризис ценностных ориентаций, универсальные идеологии вытесняются идейными течениями, которые проявляются в радикализации политического сознания [Шатилов 2020].
Конечно, многие российские политологи в последние годы сознательно или мимикрируя под патриотическую конъюнктуру стали выступать со «сбалансированных» позиций, разбавляя в своих трудах неолибертарианскую догматику «суверенными» аргументами и фактами, однако в итоге все равно получался весьма сомнительный идеологический «коктейль». Справедливости ради надо сказать, что «кондово-патриотической» литературы также хватает. В своем большинстве она написана либо уцелевшими представителями исторического материализма и научного коммунизма, которые с учетом благоприятной политической конъюнктуры решили поквитаться с либеральными/либертариан-скими/неолибертарианскими оппонентами, либо приверженцами дурной конспирологии (здоровая конспирология на деле является серьезной политической аналитикой), помешанными на теориях заговоров и происках рептило-идов. Все это активно ставит на повестку дня вопрос как о модернизации политологического терминологического аппарата, так и о поиске баланса между национальным и универсальным, между традицией и новациями, между государством и обществом.
Западная политологическая теория весьма однобоко трактовала отношения двух последних акторов. В частности, под гражданским обществом почему-то традиционно подразумевалось некое «вольнодумное», «прогрессивное», космополитическое, оторванное от народа меньшинство, а не сам народ. То есть, большинству западная политология попросту отказывала в праве на реализацию своих идеалов и чаяний, дабы соблюсти «права меньшинства» в рамках политики толерантности. Например, с точки зрения западной политологии интересы гражданского общества в России должны представлять исключительно либеральные правозащитники, навальнисты, «яблочники» и др., электоральный результат которых в совокупности практически никогда не поднимался выше 5%. А патриотическим силам, составляющим подавляющее большинство населения страны, в принадлежности к гражданскому обществу в рамках этой парадигмы парадоксально отказывалось. При этом такого рода стереотипы, сложившиеся еще на заре «лихих 90-х», были настолько устойчивыми, что вплоть до последнего времени власть опасалась портить отношения с «представителями гражданского общества», массово включая такого рода «самоназванцев» в различного рода «советы по правам человека» и предоставляя им гранты и госфинансирование на «развитие гражданского общества».
Порочность такой практики со всей очевидностью была выявлена после начала СВО, когда подавляющее большинство «системных либералов» из «институтов гражданского общества» проигнорировали и национальные интересы государства, и настрой реального гражданского общества, выступив против курса на демилитаризацию и денацификацию Украины.
Также отличительной чертой «либералов» от политологии является их стремление передергивать и замалчивать факты. Это проявляется в весьма тенденциозной и выборочной практике «черно-белого» деления политических и общественных деятелей на «агнцев» и «козлищ», в субъективной оценке со знаком «+» и знаком «–» политических событий, а также в перетягивании в свой «прогрессистский» лагерь знаменитых и популярных персон. Например, «солнце русской поэзии» А.С. Пушкин однозначно трактуется ими в качестве лидера свободолюбивой литературной общественности первой половины XIX в. и однозначно противопоставляется «российскому полицейскому государству». В качестве доказательства приводятся его контакты с декабристами и «раскрученное» стихотворение «Во глубине сибирских руд». При этом его гневное антизападническое и вполне государственническое творение «Клеветникам России» (сейчас оно как никогда актуально) они стараются попросту не замечать. Иногда в списки «своих» они записывают тех, кто в какой-то период имел неосторожность именовать себя либералом или принадлежать к либеральным партиям и движениям. Однако при этом игнорируется, что либерализм, допустим, начала XIX – начала ХХ вв. отличается от идеологии современного Либерального Интернационала, как небо и земля, что российские либералы той эпохи вроде Гучкова и Милюкова явно не родственны неолибертарианцам начала XXI столетия и пр.
В-четвертых, в современной политологии (даже в относительно «адаптированных» ее вариантах) можно отметить откровенный перекос в пользу западной мысли, западных схем и западной науки по сравнению с иным политическим, правовым, культурным и мировоззренческим опытом и наработками. В лучшем случае о них говорится лишь попутно и поверхностно и лишь в том случае, если они как-то сопрягаются с западными трендами. А ведь в целом ряде случаев вклад незападных государств в политическую и общественную жизнь является колоссальным и недооцененным. Взять хотя бы теорию управления, в основе которой лежат две базовые схемы древнего Китая – конфуцианство и легизм. А именно они до сих пор являются основой функционирования практически любой организации, взаимодействия ее руководства и коллектива, стимулирования и мотивации трудовой деятельности.
В-пятых, в современной российской политологии имеется существенный разрыв между теорией и практикой. А, как известно, теория без практики мертва. Более того, резко возросшая мировая турбулентность и вступление России в жесткую борьбу с Западом за сохранение своего суверенитета требуют от политологов большего сопряжения своей деятельности с требованиями практического момента. Время абстрактных схем и разработки прекраснодушной маниловщины прошло. Это могло позволить себе государство в состоянии относительного покоя и безопасности, в то время как в мобилизационных условиях главным критерием эффективности и целесообразности поддержки научных отраслей со стороны власти становится принцип практической пользы. Увы, политологическое сообщество (не только оно одно, но и оно в том числе) не смогло оказать руководству страны интеллектуальную помощь в плане адекватной оценки состояния украинского общества перед началом СВО, более того, после старта спецоперации определенная часть российских (!)
политологов устроила весьма эмоциональный протестный демарш. Причем за такой жизненной позицией у многих просматривался вполне эгоистический интерес – не потерять поддержку (в т.ч. финансовую) со стороны западных партнеров, которые при декларировании «плюрализма» и «терпимости» фактически организовали «культуру отмены» в отношении «неправильных» россиян. Поэтому для своего рода профессиональной реабилитации российскому политологическому сообществу требуется усилить прикладную составляющую своей деятельности, требуется стать более аналитичным и погруженным в актуальные практические вопросы, продемонстрировать, что политология может быть полезна государству и обществу как на внутреннем, так и внешнем интеллектуальных фронтах.
Все сказанное выше подводит к мысли, что российская политология нуждается в кардинальной модернизации и национализации. Модернизация необходима для теоретико-методологического и содержательного обновления с учетом того, что мир в первые два десятилетия XXI в. вышел на новый этап своего политического, технологического, социального и интеллектуального развития. Национализация важна для преодоления в отечественной политологии фактически навязанной ей в начале 1990-х гг. прогрессистско-либеральной парадигмы, отрицающей национальный суверенитет и альтернативность политического развития незападных стран. Государственный патриотизм и национальные интересы должны стать общим основанием для исследователей в сфере политических наук [Шатилов 2017]. Уже сейчас предвижу возражения и скепсис: «то есть, мы будем строить некую автономную российскую политологию, подгонять теорию под российскую конъюнктуру?», «то есть опять будет доминировать тезис: “Россия – родина слонов”?», «то есть, мы изолируемся от мирового политологического сообщества?» Нет, нет и еще раз нет. Речь идет о том, чтобы мы обобщили свой богатый национальный опыт, предложили академической и научной общественности собственное в и дение целого ряда концептуальных вопросов и проблем современности, а в преподавании сделали ставку на подготовку думающих и патриотичных специалистов, не зашоренных императивной западной либеральной догматикой, способных креативно реагировать на вызовы современности и разрабатывать новые пути развития человечества. Для этого у нашей российской политологии имеются необходимые ресурсы и возможности. Тогда и у российской власти исчезнут сомнения относительно ее пользы и ценности.
Список литературы Российская политология: настало время модернизации и национализации?
- Джанда К. 2008. Теория партий и дефиниции. - Теория партий и партийных систем. М.: Аспект Пресс. С. 104-107.
- Шатилов А.Б. 2017. Формирование концепта государственного патриотизма в России в период 2000-2017 гг.: основные этапы и базовые идеологемы. - Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. № 7(3). С. 18-23.
- Шатилов А.Б. 2020. Мировая политика на стыке политологии, политической психологии и технологических вызовов информационной эпохи. - Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. № 10(2). С. 122-126.