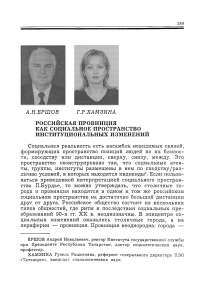Российская провинция как социальное пространство институциональных изменений
Автор: Ершов Андрей Николаевич, Хамзина Гузель Рашитовна
Журнал: Регионология @regionsar
Рубрика: Социология региона
Статья в выпуске: 2 (47), 2004 года.
Бесплатный доступ
Региональная специфика изменений в сферах политики, экономики, социальной дифференциации, структуры ценностей, существующих в современном российском обществе, согласно предложенной авторами статьи типологии поселений, подразделяемых на непровинцию, полупровинцию и суперпровинцию. представлен. В статье использованы результаты социологических исследований, проведенных в ряде татарских городов.
Короткий адрес: https://sciup.org/147222115
IDR: 147222115
Текст научной статьи Российская провинция как социальное пространство институциональных изменений
Социальная реальность есть ансамбль невидимых связей, формирующих пространство позиций людей по их близости, соседству или дистанции, сверху, снизу, между. Это пространство сконструировано так, что социальные агенты, группы, институты размещены в нем по сходству/раз-личию условий, в которых находятся индивиды1. Если пользоваться приведенной интерпретацией социального пространства П.Бурдье, то можно утверждать, что столичные города и провинция находятся в одном и том же российском социальном пространстве на достаточно большой дистанции друг от друга. Российское общество состоит из нескольких типов общностей, где ритм и последствия социальных преобразований 90-х гг. XX в. неоднозначны. В эпицентре социальных изменений оказались столичные города, а на периферии — провинция. Провинция неоднородна: города —
ЕРШОВ Андрей Николаевич, ректор Института государственной службы при Президенте Республики Татарстан, доктор социологических наук, профессор.
ХАМЗИНА Гузель Рашитовна, референт генерального директора ПЭО «Татэнерго», кандидат социологических наук.
административные центры субъектов РФ, промышленные центры могут быть охарактеризованы как «полупровинция», средние и малые — «провинция», а село — «сверхпровинция». Социотерриториальная дистанцированность этих поселенческих структур позволяет считать, что в российском обществе сосуществуют несколько типов сообществ и культур. Темпы жизни, ценность времени, социальное расслоение, критерии богатства/бедности, а в целом уровень и качество жизни в этих сообществах существенно различаются.
Провинциальная общность — более широкая категория по сравнению с социальной, демографической, профессиональной и другими формами общности. Она представляет собой совокупность людей, принадлежащих к разным социальным группам, взаимозависимых в повседневной жизни, со свойственным им местным самосознанием и территориальной самоидентификацией. Провинция, как отмечал Л.Н.Ко-ган, — это не только территория, но и определенный образ и стиль жизни. Провинциалом может быть по стилю и образу повседневной жизни и житель столицы, равно не каждый житель провинции может быть носителем провинциального стиля жизни2
В России всегда были и будут исторически сложившиеся различия между центром и провинцией в традициях, культуре, менталитете, образе и стиле жизни населения, которые накапливались длительное время и усугубились в первое постсоветское десятилетие. Они трудно поддаются социальному регулированию, но с улучшением общей экономической ситуации в стране сокращаются, но пока носят характер социального неравенства.
Неравномерны по темпам, содержанию, социальным последствиям и институциональные изменения в российском обществе, имеющие регионально-локальную специфику.
Анализируя изменения политических институтов, следует отметить, что федеративное устройство страны базируется на ее целостности, юридическом равноправии всех ее субьектов. Однако между последними имеются, как отмечает А.И.Сухарев, различия, обусловленные масштабами и ресурсами территорий, демографическими характеристиками, этническим составом населения, особенностями хозяйственного комплекса, социальной структуры, администра- тивного устройства3 Это не могло не сказаться и на темпах политических преобразований 90-х гг. XX в., их социальных последствиях для провинции.
Традиционно в России сложился сильный центр власти, но, как отмечает Г.Симон4, проходили столетия, менялось государственное оформление власти, а структура власти всегда самовоспроизводилась, при этом очень сильное государство сочеталось со слабым обществом. Разделение территорий производилось волевым решением сверху, а не в результате внутренней самоорганизации. Все эти тенденции негативно влияют и на формирование современных структур местного самоуправления.
В Республике Татарстан и в перспективе, по-видимому, будут действовать три вектора управления. Во-первых, управление «сверху вниз» из российского центра, которое будет выступать как данность, но не неизменная, а испытывающая обратное воздействие других векторов. Во-вторых, управление «сверху вниз», т.е. республиканские властные структуры будут совершенствоваться, и в этом смысле можно говорить о самоорганизации региональных властных структур. В-третьих, демократизирующиеся и активизирующиеся в процессе собственной самоорганизации различные массовые социальные группы и слои. По-видимому, этот вектор управления будет самым труднореализуемым и по времени достаточно длительным. Пока же вертикаль исполнительной государственной власти обрывается на уровне субъекта федерации5 Бывшие районные органы власти стали формально муниципальными, однако по-прежнему исполняют значительную часть государственных полномочий. Поселковые и сельские муниципальные образования не имеют должных административных ресурсов, поэтому полномочий поселковых и сельских муниципальных образований недостаточно для оперативного управления. Между тем именно они призваны добиваться создания достойных, комфортных условий жизни населения.
Провинциальное общественное мнение также еще не сформировалось в пользу местного самоуправления. По данным наших опросов, решение такой важной для самоуправления проблемы, как преодоление дефицита бюджета опрошенные видят в оптимизации расходов, повышении собираемости налогов и лишь потом — в создании новых рабочих мест, привлечении инвестиций, хотя именно последние являются для этого важнейшим условием. Не ведется и должной разъяснительной работы среди населения о сущности, задачах и функциях местного самоуправления, его возможностях в реализации прав населения. Опрошенные работники местных организаций не смогли прокомментировать сущность местного самоуправления (35,1 % из них отнесли к органам местного самоуправления городские и районные Советы народных депутатов, 40,5 — организацию граждан по месту жительства, 5,4 — администрации районов и городов, а 16,2 % — все перечисленные органы). Лишь две трети опрошенных находят необходимым реформирование местного самоуправления, а половина проявила полную неосведомленность в основных положениях федерального Закона РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ. Факторы, препятствующие эффективной работе органов местного самоуправления, респонденты сводят главным образом к отсутствию финансово-экономической базы, и лишь каждый пятый госслужащий указал на такие негативные факторы, как безынициативность, равнодушие населения. Без активизации в управленческом процессе самого населения местное самоуправление невозможно.
По данным опроса жителей г. Казани (июль — август 2003 г.), отношение городского населения к идее внедрения местного самоуправления на уровне районов и микрорайонов неоднозначно. Почти каждый третий опрошенный не мог ответить, что такое местное самоуправление; каждый четвертый выразил положительное, а каждый третий — безразличное отношение к такой форме управления, лишь 2,6 % указали, что они «уже живут в условиях местного самоуправления». Таким образом, очевидна правовая неосведомленность провинциального населения о местном самоуправлении. Эти тенденции свойственны и другим российским регионам6
В столичных, других крупных городах политическая жизнь динамична, а политические институты функционируют на достаточно развитых демократических принципах.
В провинциальных сообществах пока сильны авторитарные политические традиции, поэтому в периоды избирательных кампаний разных уровней самым управляемым электоратом в РФ становится провинциальное население. Провинциальное население можно убедить «за кого голосовать», при этом мало ему обещая ввиду отсутствия у него больших претензий к уровню, качеству и условиям своей жизни. Именно поэтому в избирательных платформах кандидатов невыразительны обещания, касающиеся улучшения жизни провинции, особенно села. Глубинка малоинтересна публичным политикам, т.к. полигоном политической борьбы 90-х гг. XX в. стали столицы и крупные города. Интерес к проблемам «окраинного» населения и сейчас остается заниженным. Провинциальное население в своих представлениях об общественном устройстве страны тяготеет к советским политическим традициям, коммунистическим идеям социального равенства и справедливости.
Говоря об изменениях институтов экономики, следует отметить, что новые экономические отношения все более углубляются в столичных и крупных городах, тогда как на периферии перемены малозаметны. Низкие заработки, длительные задержки заработной платы, произвол работодателей в лице директоров различных акционированных сельскохозяйственных ассоциаций, натурализация оплаты труда выдвинули население малых городов и сел на рубежи более низкого потребления в сравнении с советским периодом. Провинциальное население, особенно сельское, в период преобразований 90-х гг. XX в. оказалось в условиях физического выживания, находясь на полном самообеспечении за счет натурализации хозяйства. По данным наших исследований, в татарстанских городах по сравнению с советским периодом втрое сократилось число считающих себя богатыми, почти вдвое уменьшился средний слой, почти в 5 раз увеличилось количество бедных. Каждый десятый опрошенный в г. Лениногорске, Нижнекамске, Альметьевске затруднился в оценке своего материального статуса. Нами это объясняется тем, что в советский период не использовался термин «бедные». Кроме того, для части респондентов, вероятно, непривычно занятие ниши «новых бедных». Если значительная часть населения столичных и крупных городов, судя по публикуемым данным социологических исследований в российских регионах, вполне адаптировалась к новой экономической ситуации, то адаптационная стратегия провинциального населения пока реализуется через понижение планки ее жизненных притязаний.
Продолжает расти территориальная изолированность провинции от центра. «Утечка мозгов» в периоды девальвации профессионализма, образования в начале реформ сильно обеднила провинцию. Почти прекратился приток талантливой молодежи, а та ее часть, у которой имеются материальные ресурсы или творческие шансы, предпочитает жить и работать в больших городах. В настоящее время во многих провинциальных городах открыты филиалы различных вузов, однако низкое качество образовательных услуг во многих из них предполагает лишь получение диплома. Самоценно же в этой образовательной практике то, что учеба в провинциальных филиалах крупных вузов является интеллектуальной занятостью молодежи, получением ею формального высшего образования.
Местная исполнительная власть маловлиятельна, не имеет достаточных ресурсов для обеспечения социальной помощи нуждающимся слоям населения. Формирующиеся на такой социальной основе провинциальное мировоззрение и менталитет не вписываются в либеральный (рыночный) тип общественного сознания. Особенно негативны социальные изменения на селе. Вновь созданные сельскохозяйственные ассоциации и различные «крупхозы», как правило, не обладают теми интегративными функциями, которые ранее имелись у колхозов и совхозов. Разобщенность, хозяйственный хаос вызвали формирование несвойственной сельской общине психологии «каждый за себя».
Анализ изменений в институтах социальной дифференциации показывает, что в столичных городах, отчасти в городах-административных центрах субъектов РФ, более рельефно социальное расслоение населения, есть признаки и классового структурирования, более заметен высший, а не средний слой. Этот процесс в провинции менее заметен. В малых непромышленных городах отсутствует, в частности, не только высший класс, но даже средний слой. Линия поляризации проходит между широким низшим слоем и незначительным средним. В столичных, а также крупных городах, прослеживается тенденция к постепенной дифференциации общества не только по уровню доходов, но и по потребительским практикам, постепенно формируется полистилизация жизни, тогда как провинциальный образ жизни остается моностилистичным.
Провинциальная среда является благоприятной почвой для формирования стереотипного мышления и авторитарного типа личности, а такие люди склонны к конформизму, смиренны перед тем, кого они ставят выше себя, и пренебрежительны к тем, кто находится ниже их. Авторитарной личности свойственно жесткое, консервативное мировоззрение, послушность, управляемость7 Аномия большого российского общества несколько позже достигла провинциальные сообщества. Региональные особенности аномических процессов пока изучены недостаточно. Глубина этого процесса неодномерна в центре и на периферии, но есть ряд сходств (ослабление чувства принадлежности к большому обществу, дисфункции в отношениях между большим обществом и его подсистемами, деактуализация прежних нравственных принципов, социальный скепсис и разобщенность). В то же время аномические явления в провинциальных сообществах имеют свои особенности: обостренность чувства социального отчуждения; пессимистическая самооценка своих жизненных шансов и жизненных перспектив своих детей; сохранение патерналистских предубеждений, несмотря на разочарования в социальных ожиданиях; неприятие ценностей либерального (рыночного) типа; сожаления по поводу утраты советских достижений, традиций и обычаев.
Аномия общественного и индивидуального сознания в провинциальных сообществах проявилась наиболее обостренно благодаря неожиданности социальных изменений. То, что трансформирующееся российское общество есть новая социальная реальность, только сейчас осознается провинциальным сообществом, убеждающимся в том, что теперь нет прежней основы, на которой происходила социализация среднего и старшего поколений. Это особенно обостренно воспринимается сельским населением, поскольку его значительную часть составляют лица предпенсионного и пенсионного возрастов. У провинциальной молодежи постелен- но формируются новые культурные стереотипы и социальные потребности. Если у старшего поколения не было большого выбора в потреблении культурной продукции, то у провинциальной молодежи имеется, хотя и ограниченная, свобода выбора. Провинциальное население стало меньше читать художественную литературу, выписывать газет и журналов. Кино в провинции, самый популярный в советский период канал репродукции культуры, потеряло массовую аудиторию; его вытеснило телевидение и в меньшей степени — радио. Провинциальное население в основном потребляет культурную продукцию местных каналов теле-и радиовещания, но преимущественно развлекательного характера.
В столичных городах получает все большее распространение элитарная культура, провинциальному населению малопонятная и недоступная. Оно является потребителем массовой культуры низкого эстетического уровня.
Постепенно формируется вторичная функциональная неграмотность провинциального населения. За указанными явлениями наблюдается утрата традиционной для провинции нравственности, поскольку высокие образцы культуры одновременно являлись средством формирования нравственности. Было бы большим заблуждением утверждать, что провинциальное население в советском обществе отличалось высоким уровнем культуры. О развитости культуры в провинции тогда было принято судить по степени развитости ее инфраструктуры, а не по показателям реального потребления достижений мировой и советской культуры. Именно неудовлетворенность материальных потребностей отодвинула на второй план духовные потребности провинциального населения.
Современная провинциальность существенно отличается от описанной в русской классической литературе, но она не перестала быть феноменом российской действительности. Жителями провинции отдается предпочтение местным, а не центральным СМИ, между тем информационно содержательный уровень газетной и другой продукции периодической печати, передач теле- и радиовещания в провинции ниже, чем центральных СМИ. Предпочтение потребления услуг местных газет, радио и телевидения формирует у провинциального населения безразличие к духовной жизни столицы, самоидентичность с территорией проживания, а не со страной. К тому же имеют место обыденность использования свободного времени, аполитичность, интеллектуальная ограниченность, поверхностность суждений о жизни страны, заурядность социальных амбиций.
Институциональные изменения в провинции заслуживают того, чтобы быть предметом самостоятельных монографических исследований и еще в большей степени — в мерах государственного регулирования, направленных на сокращение дистанции между центром и периферией российского общества.
Список литературы Российская провинция как социальное пространство институциональных изменений
- Бурдье П. Начала. М., 1994. С. 117-118.
- Коган Л.Н. Духовный потенциал провинции вчера и сегодня // Социол. исслед. 1997. № 4. С. 122.
- Сухарев А.И. Проблемы регионологии. Саранск / НИИ регионологии. 2001. С. 37.
- Симон Г. Мертвый хватает живого. Основы политической культуры России // Общественные науки и современность. 1996. № 6. С. 29-43.
- Горфинкель И. Проблема разграничения полномочий между органами местного самоуправления: опыт Свердловской области // Местное самоуправление в современной России: Политика, практика, право. Сер. «Библиотека муниципального служащего». Вып. 2. М., 1998. С. 39.
- Тощенко Ж.Т., Цыбиков Т.Г. Развитие демократии и становление местного самоуправления в России // Социол. исслед. 2003. № 8. С. 31-39.
- Гидденс Э. Социология / Пер. с англ. М., 1999. С. 244-245.