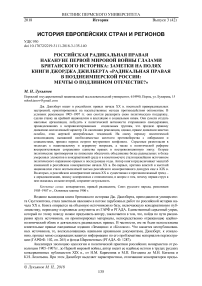Российская радикальная правая накануне Первой мировой войны глазами британского историка: заметки на полях книги Джорджа Джилберта "Радикальная правая в позднеимперской России: мечты о подлинном Отечестве?"
Автор: Лукьянов М.Н.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: История Европейских стран и регионов
Статья в выпуске: 3 (42), 2018 года.
Бесплатный доступ
Дж Джилберт видит в российских правых начала ХХ в. носителей праворадикальных настроений, ориентированных на насильственные методы противодействия оппонентам. В условиях революции 1905-1907 гг. они смогли расширить свою политическую поддержку, сделав ставку на крайний национализм и апелляцию к социальным низам. Они сумели создать массовые организации, побудить к политической активности сторонников самодержавия, принадлежавших к непривилегированным социальным группам, что придало правому движению всесословный характер. По окончании революции, однако, правое движении заметно ослабло, став жертвой центробежных тенденций. На смену периоду политической консолидации, вызванной необходимостью жесткого противоборства с либералами и социалистами, пришел период острого внутреннего конфликта. Серьезные разногласия в подходах к национальному и аграрному вопросам, а также к политической реформе воспрепятствовали сохранению единства правых в постреволюционную эпоху. Острые политические противоречия не позволили обеспечить объединение более радикальных и более умеренных элементов в консервативной среде и в конечномсчете стали важнейшим источником политического поражению правых в последующие годы. Автор книги преувеличивает масштаб изменений в российском консерватизме начала ХХ в. Во-первых, критика властей и жесткий национализм стали неотъемлемой частью российского консервативного дискурса еще в XIX в. Во-вторых, в российском консерватизме начала ХХ в. существовал и противоположный тренд -к дерадикализации, поиску компромисса с оппонентами, и вопрос о том, почему первая струя в нем оказалась сильнее второй, сохраняет актуальность
Консерватизм, правый радикализм, союз русского народа, революция 1905-1907 гг., основные законы 1906 г.
Короткий адрес: https://sciup.org/147245177
IDR: 147245177 | УДК: 930 | DOI: 10.17072/2219-3111-2018-3-135-140
Текст научной статьи Российская радикальная правая накануне Первой мировой войны глазами британского историка: заметки на полях книги Джорджа Джилберта "Радикальная правая в позднеимперской России: мечты о подлинном Отечестве?"
Недавно вышедшая книга британского историка Дж. Джилберта, преподавателя университета Саутгемптона, стала заметным явлением в потоке зарубежных работ по российской истории начала ХХ в. Книга опирается на объемную источниковую базу, включающую консервативную публицистику, периодику и архивные документы из ГАРФ и РГАДА. Единственный серьезный упрек, который по этому поводу можно предъявить автору, заключается в том, что, пойдя по пути расширения круга источников, он проигнорировал материалы, непосредственно отражающие идейнополитический облик и деятельность радикальных правых. В частности, им не были использованы влиятельные правые ежедневные издания «Земщина» и «Колокол». Что касается неопубликованных источников, то, воспользовавшись важными архивными документами, Джилберт, к сожалению, прошел мимо содержащих важную информацию по его проблематике материалов перлюстрации (ГАРФ.Ф. 102, оп. 265) и фонда Шереметевых (РГАДА. Ф. 1287).
Анализируя эволюцию идеологии и политической практики российских монархистов от революции 1905–1907гг. до Первой мировой войны, автор видит ее идейные истоки в трудах русских консервативных публицистов XIX в., от Н.М. Карамзина и М.П. Погодина до М.Н. Каткова и К.Н. Леонтьева. При этом Джилберт выделяет характеристики, отличавшие консерваторов преды-
дущего века от российских правых начала ХХ в. В отличие от своих предшественников правые в начале ХХ в. апеллировали к социальным низам, демонстрировали критическое отношение к реально существующим властным институтам, а в борьбе с политическими оппонентами были готовы нарушить монополию государства на насилие.
Уже подзаголовок книги («Мечты о подлинном Отечестве?») подчеркивает напряженность между российским статус-кво и правыми, считавшими его далеким от идеала. По мнению автора, главным инструментом правой пропаганды, ее «идеологическим цементом», выступал воинствующий русский национализм. Большое внимание Джилберт уделяет политическим инструментам, которые использовали правые ради привлечения внимания и вербовки сторонников, – политическим ритуалам символам, и праздникам [ Gilbert , р. 128–148].
Несомненным достоинством книги является анализ российской правой не только на общероссийском, но и на региональном уровне, о чем прежде писали главным образом российские авторы. Джилберт реконструирует историю правых организаций Одессы, Киева и Астрахани и приходит к выводу о большем радикализме провинциальных правых по сравнению со столичными [ Gilbert , р. 87–116].
Джилберт останавливается на конфликтах в правом движении начала ХХ в., избегая широко распространенных упрощений в их трактовке. Это особенно важно, поскольку в современной западной историографии присутствует тенденция преувеличивать значение личных распрей и споров за правительственные дотации для объяснения причин неудачи правых. Можно предположить, что такой подход, характерный для советской историографии, был до известной степени актуализирован постсоветскими политическими реалиями. В результате коррупция оказывается основным фактором конфликтов в среде правых и их дискредитации в глазах общественного мнения [ Langer, 2007, р. 270–271].
Не отрицая влияния коррупции на политические неудачи правых, Джилберт предлагает гораздо более сложные их объяснения. Он отмечает, что после революционных событий 1905–1907 гг. консервативные элементы в России оказались в затруднительном положении. С одной стороны, правые формирования, действовавшие автономно от властей, после победы над революцией объективно оказались фактором политической дестабилизации. С другой стороны, в консервативной среде отсутствовало организационное и идейно-политическое единство [ Gilbert , р. 189–190].
Конфликты среди защитников монархии объяснялись не только личными амбициями лидеров и спорами по поводу правительственных субсидий, но и расхождениями по принципиальным вопросам, прежде всего по национальному. В то время как правые настаивали на примате этнического фактора в понимании нации, приверженцы Всероссийского национального союза видели в ней не только этническую, но и гражданскую общность. А некоторые из националистов и вовсе рассматривали Российскую империю как «семью народов», согласившихся идентифицировать свои интересы с русскими [ Gilbert , р. 200 – 201].
Серьезные расхождения между правыми и националистами отмечались в аграрном вопросе. Многие деятели Союза русского народа и позднее Всероссийского Дубровинского союза русского народа (в частности, А.И. Дубровин и К.Н. Пасхалов) выступали за сохранение общины, а националисты (например, В.В. Шульгин) ее резко критиковали. Расхождения такого рода оказались особенно заметны во время конфликта вокруг земства в Западном крае, в ходе которого крайние правые выступили против Столыпина, а националисты с ним солидаризировались [ Gilbert , р. 204].
Противоречия между националистами и правыми достигли апогея в связи с делом Бейлиса. Правые явились инициаторами агрессивной антисемитской кампании, обвинив М. Бейлиса в «ритуальном убийстве», а издатель пронационалистического «Киевлянина» Д.И. Пихно и его пасынок и преемник В.В. Шульгин в обоснованности этих обвинений публично усомнились [ Gilbert , р. 210–213].
В итоге накануне Первой мировой войны правая часть российского политического спектра была далека от единства. Линией водораздела стали противоречия между респектабельными националистами и более радикальными правыми, особенно дубровинцами. Успехи последних в распространении своего влияния на социальные низы ослабляли воздействие социалистической и либеральной агитации. Однако, способствуя завоеванию симпатий «простой публики», радикализм правых лишал их потенциальной поддержки более умеренными элементами. Это привело к размы- ванию социально-политической опоры самодержавия, которая не смогла выдержать новой революционной волны [Gilbert, р. 216].
Британский исследователь находит много общего в идеологии и политической практике российской правой и аналогичных течений в других странах. В течение полувека после публикации Х. Роггером и Ю. Вебером сборника «Европейская правая» западные русисты не проявляли сколько-нибудь заметного интереса к тому, как российский консерватизм вписывался в интернациональный контекст [ Rogger , 1966]. Есть все основания поставить в заслугу автору возвращение к этой проблематике. Джилберт обнаруживает в своих персонажах представителей общеевропейской праворадикальной волны, оказавшей сильное воздействие на эволюцию консервативных движений в континентальной Европе первой половины ХХ в. Признавая сходство российских праворадикальных элементов с Пангерманским союзом и Аксьон франсэз, автор полагает более плодотворным сравнивать их с румынскими и испанскими правыми межвоенного времени в силу близости социально-экономического облика Российской империи начала ХХ в. к Румынии и Испании 1920– 1930–х гг. [ Gilbert , р. 226–228].
В целом книга Джорджа Джилберта существенно уточняет и углубляет представление о том, почему, победив в 1905–1907гг., российские консерваторы потерпели сокрушительное поражение в 1917 г.
Вместе с тем многое в этой оригинальной и содержательной работе вызывает возражения. Во-первых, при чтении книги не покидает ощущение, что автор попытался как можно более полно отразить в ней содержание диссертации. Однако не все уместное в диссертации – научноквалификационной работе – выглядит столь же уместным в монографии. Скажем, едва ли имело смысл давать в книге характеристику эволюции российского консерватизма в XIX в., основанную, к тому же не на источниках, а на литературе. Говоря о российском консерватизме XIX столетия, Джилберт недооценивает различий между славянофильством и «официальной народностью» и даже именует ее представителей – М.П. Погодина и Ф.И. Тютчева – «видными славянофилами» [ Gilbert , р.19]. Логичным было бы начать работу непосредственно с характеристики таких консервативных деятелей рубежа XIX и XX вв., как С.Ф. Шарапов, Б.С. Сыромятников, В.А. Грингмут, В.П. Мещерский, – персонажей, с которыми автор знаком намного основательнее и которые потом будут фигурировать на страницах книги.
Из того же стремления объять необъятное проистекают и чисто технические ошибки. Помещая в начале книги список часто встречающихся в ней персонажей и организаций (кстати, не очень понятно, зачем: ведь перед нами не пьеса, а научная монография), автор допускает ряд фактических неточностей [ Gilbert , р. XX–XXII]. Приведу несколько примеров. Джилберт ошибочно называет Н.Е. Маркова лидером Союза Михаила Архангела, каковым на самом деле был В.М. Пуришкевич. Что же касается Пуришкевича, то он был депутатом не только III и IV, как утверждает автор, но и II Государственной Думы. Это же относится к В.В. Шульгину, время пребывания которого в Думе «сокращено» таким же образом. Вдобавок он именуется националистом, что верно лишь отчасти: начинал Шульгин как правый и присоединился к националистической фракции лишь в ходе работы III Думы. Указывая даты возникновения правых организаций, автор в одном случае (Всероссийского Дубровинского союза русского народа) называет времени прекращения его существования 1917 г., а в других случаях этого не делает.
Присутствуют в работе более принципиальные промахи. Например, Джилберт подчеркивает наличие среди его персонажей многочисленных сторонников сохранения общины и утверждает, что «позиция правых по аграрному вопросу была неприемлема для дворян-землевладельцев» [ Gilbert , р. 204]. Между тем многие правые поддерживали политику разрушения общины, видя в частном крестьянском землевладении противовес влиянию социалистов в деревне. К тому же правые защитники общины обычно апеллировали к необходимости сохранить исторически сложившийся социально-экономический облик русской деревни, сочетавшей коллективное крестьянское землевладение с частным помещичьим.
Что касается поддержки правыми претензий крестьян на увеличение их земельных наделов за счет земли помещиков, то это было характерно главным образом для Западного края, где среди землевладельцев преобладали этнические поляки. В «коренных» российских губерниях ситуация выглядела иначе. Именно опасения ослабить влияние помещиков на органы местного самоуправления (как это предусматривал законопроект о земстве в Западном крае) привели к голосованию против него членов Правой группы Государственного Совета и скандальному роспуску законодательных учреждений в марте 1911 г.
Подчеркивая радикальные настроения среди правых в отношении к социальным вопросам и справедливо связывая этот радикализм со стремлением заручиться поддержкой низов, Джилберт гораздо меньше внимания обращает на праворадикальные тенденции в политической сфере. По сути дела, автор видит их проявление в широком использовании массовых и часто насильственных форм противодействия политическим оппонентам. Но только ли использование правыми прямого насилия давало основание именовать их «революционерами справа»?
Никак не меньшее, а после революции 1905 г. и гораздо большее основание для такого рода характеристик давали планы политического переустройства, активно разрабатывавшиеся правыми политиками и идеологами. Изменить Основные Законы 1906 г. предлагал Л.А. Тихомиров [ Тихомиров , 1907, 1912]. Записку с проектом радикальной политической реформы в 1910 г. представил К.Н. Пасхалов, передав экземпляр своей брошюры с дарственной надписью государю [ Пасхалов, 1910]. Положить в основание российской государственности не гибрид самодержавия и конституционной монархии, а сочетание самодержавия и местного самоуправления призывал на страницах «Свидетеля» С.Ф. Шарапов [ Шарапов , 1909, с. 63–65]. Наконец, в 1913 г. была предпринята практическая попытка избавиться от законодательного народного представительства. Тогда был прямо поставлен вопрос о необходимости распустить IV Думу, изменить законодательство о выборах, отказаться от принципа принятия решений большинством голосов и даже был подготовлен проект указа о роспуске Думы [ Документы , 1988]. Планы такого рода периодически появлялись в правых кругах вплоть до февраля 1917 г. [ Loukianov , 2016, р. 892–894].
В работе британского историка, анализирующего ключевой этап истории российского консерватизма, ставятся вопросы, которые выходят далеко за рамки заявленной в ней проблематики. Важнейший из них – отношение российского консерватора к власти и, шире, к статус-кво. Уже Н.М. Карамзин в отличие от Э. Берка и Ж. де Местра в «Записке о Древней и Новой России» критиковал не столько революционеров и их эпигонов, сколько реформы, проводимые именем государя. Негативные суждения по поводу правительственной политики высказывали славянофилы М.Н. Катков, Р.А. Фадеев, К.Н. Леонтьев и другие консервативные идеологи середины и второй половины XIX в. В общем критика правительственных реформ справа к началу ХХ в. имела столетнюю историю и стала своего рода традицией.
Государь и назначенные им бюрократы должны были одновременно решать две противоречившие друг другу задачи: сохранять стабильность и одновременно осуществлять перемены ради сохранения конкурентоспособности России в мире. Однако реформы сверху часто казались консерваторам опасными новациями, подрывавшими традиционный порядок. Разумеется, вина за нежелательные перемены возлагалась не на государя, а на бюрократов, образующих вредное «средостение» между царем и народом, и антибюрократические выпады становились «дежурным блюдом» консервативной публицистики.
Некоторые консерваторы настолько не желали мириться с настоящим, что начинали искать ему альтернативу в утопии. Стремление не догму приспособить к действительности, а действительность к догме было характерно для многих консервативных политиков и идеологов как в XIX, так и в начале ХХ в. Этим обстоятельством и объяснялось обилие консервативных проектов радикального переустройства российской политической и социально-экономической жизни.
Впрочем, стоит оговориться, что наличие сильной праворадикальной струи в российском консерватизме вовсе не означало отсутствия в нем противоположных настроений. Особенно заметными они стали как раз в рассматриваемый автором период. Наряду с тенденцией к радикализации в российском консерватизме присутствовала и тенденция к дерадикализации, заимствованию ценностей и политических практик у либералов. В качестве проявлений этой тенденции можно указать на объявление русскими националистами представительных институтов важнейшей частью политической системы и именование российского политического порядка «самодержавно-представительным». О развитии процесса дерадикализации свидетельствовало активное участие создателей черносотенных союзов Маркова и Пуришкевича в работе III и IV Государственной Думы.
Особенно заметной умеренная струя в российском консерватизме оказалась в период Первой мировой войны. В августе 1915 г. члены фракции Центра и прогрессивные националисты (значи- тельная их часть прежде входила в думскую фракцию националистов и умеренно правых) вступили в либерально-консервативный Прогрессивный блок, составив его правое крыло. Тягу к консенсусу с либералами в годы войны обнаружили и прежде занимавшие жесткие правые позиции И.И. Восторгов и В.М. Пуришкевич. Из консервативных периодических изданий заметно полевел «Колокол». Одновременно другая часть правых консолидировалась на платформе жесткого противостояния либералам. Но из того факта, что первая из указанных тенденций в российском консерватизме в конечном счете оказалась слабее, не следует, что она не достойна внимания. Изучение сравнительно умеренных, менее радикальных, версий российского консерватизма начала ХХ в. позволило бы уточнить его общую эволюцию и выяснить, почему экстремистская струя в нем возобладала. Капитальный труд Джилберта о праворадикальных тенденциях в отечественном консерватизме подчеркивает актуальность такого рода исследования.
Список литературы Российская радикальная правая накануне Первой мировой войны глазами британского историка: заметки на полях книги Джорджа Джилберта "Радикальная правая в позднеимперской России: мечты о подлинном Отечестве?"
- Документы о попытке государственного переворота в октябре 1913 г. // Археограф. ежегодник за 1987 г. М.: Наука, 1988. С. 309-313.
- Пасхалов К.Н. Погрешности обновленного 17 октября 1905 года государственного строя и попытка их устранения. М.: Печатня А.И. Снегиревой, 1910.70 с.
- Тихомиров Л.А. Самодержавие и народное представительство. М.: Университет типография, 1907. 22 с.
- Тихомиров Л.А. К реформе обновленной России. М.: Типография В.М. Саблина, 1912.343с.
- Шарапов С.Ф. Мой дневник // Свидетель. 1909. № 21. С. 21-93.
- Gilbert G. The Radical Right in Late Imperial Russia: Dreams of a True Fatherland? London; New York: Routledge, 2016. XXIII. 258р.
- Langer J. The Corruption and the Counterrevolution: The Rise and Fall of the Black Hundred: Ph. D. Diss. Durham (N. C.): Duke University, 2007.VI, 281р.
- Loukianov M. The First World War and the Polarization of the Russian Right, July 1914 - February 1917 // Slavic Review. 2016. Vol. 75, No. 4. P. 872-895.
- Rogger H. Russia // The European Right: A Historical Profile / Ed. by Rogger H. and E. Weber. Berkley; Los Angeles: University of California, 1966. P. 443-500.