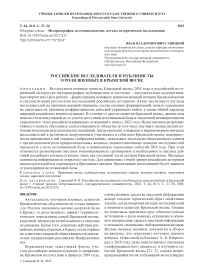Российские исследователи и публицисты о роли военных в крымской весне
Автор: Савицкий Иван Владимирович
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: История
Статья в выпуске: 8 т.44, 2022 года.
Бесплатный доступ
Исследуются военные аспекты Крымской весны 2014 года в российской исторической литературе (историографии, публицистике и частично - документально-художественном творчестве). Цель работы - формулировка основных вопросов военной истории Крымской весны и систематизация результатов исследований российских историков. Автор анализирует взгляды исследователей на причины военной операции, состав силовых формирований, начало героизации их деятельности, причины неэффективности действий украинских войск, а также общий характер операций российских военнослужащих. В отличие от других сюжетов Крымской весны, данная тема пока не стала популярной из-за узости доступной источниковой базы и смысловой незавершенности «крымского» этапа российско-украинских отношений к началу 2022 года. Недостаточная ретроспективность сюжета обусловила удовлетворенность общества (в том числе научных специалистов) публицистическими результатами исследований. Автор приходит к выводам о неравномерном интересе исследователей к различным вооруженным участникам и событиям Крымской весны, некорректности применения к ней термина «гибридная война», показывает несогласие общественного мнения с преувеличением роли профессиональных военных, немногочисленные попытки исследователей преодолеть узость источниковой базы и неминуемую героизацию событий 2014 года. При этом отмечается разнообразие местных военизированных группировок и необходимость анализа действий российских военнослужащих лишь как составной части акторов Крымской весны. Материал основан на информации из открытого доступа. Для сравнения с точкой зрения российских историков используются работы украинских и британских авторов. Продолжение исследований будет зависеть от расширения источниковой базы.
Крымская весна, публицистика, историческое знание, военная история, вежливые люди, народное ополчение
Короткий адрес: https://sciup.org/147238905
IDR: 147238905 | УДК: 930:94(470+477.75)"2014" | DOI: 10.15393/uchz.art.2022.832
Текст научной статьи Российские исследователи и публицисты о роли военных в крымской весне
Актуальность изучения военных аспектов Крымской весны обусловлена не только важным для России значением военно-морской базы в Крыму: от роли военных зависит терминологическое определение самой Крымской весны, в научной литературе колеблющееся от сецессии до аннексии. Кроме того, успешные действия российских военнослужащих в Крыму стали первым (из известных широкой общественности) показателем модернизации российских Вооруженных сил.
Первоначально замалчивая факты участия российских военнослужащих в операциях на Крымском полуострове в феврале 2014 года,
отечественные средства массовой информации вскоре создали героический образ «вежливых людей», актуализировав интерес исследователей к военным аспектам Крымской весны. Однако по понятным причинам круг общедоступных источников о роли военных ограничен в основном материалами средств массовой информации и личными «полевыми» наблюдениями авторов. Ведомственные военные документы в оборот не введены, что затрудняет изучение данного вопроса. Известный публицист А. Б. Широкорад в 2016 году даже констатировал опускание «информационного занавеса» в изучении событий Крымской весны [21: 2], однако непре-кращающийся поток публикаций не подтвердил его опасений. Ощущение «занавеса» возникает не из-за каких-то цензурных ограничений, а из-за быстрой исчерпанности доступной источниковой базы. Исследователи пытаются найти выход из ситуации разными способами, в том числе уходя в жанр «документально-исторического ро-мана»1. При этом в романе приводятся «рассекреченные» российские документы, впоследствии использованные и в научной литературе [8: 254]. Не исключено, что в будущем обнаружившаяся информация о военных аспектах Крымской весны будет применяться ограниченно. По наблюдениям Г. А. Куренкова, организация системы защиты государственной тайны связана как с известными факторами, так и с неизвестными событиями в будущем и потому всегда содержит признаки и элементы неопределенности [9: 86]. Дополнительную актуальность теме придала серия нормативных актов – постановление Правительства РФ об изменениях в «Правила отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням секретности» от 30 октября 2021 года и особенно утвержденный приказом ФСБ России № 379 от 28 сентября 2021 года «Перечень сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые <…> могут быть использованы против безопасности Российской Федерации» (но при этом не являются секретными). Не вдаваясь в дискуссии о качестве формулировок, адресной направленности и потенциальной эффективности правового творчества силовиков, необходимо сформулировать позицию историка относительно использования материалов, уже являвшихся предметом широкого изучения и позднее отнесенных к сведениям ограниченного распространения или вовсе засекреченным.
Среди исследователей распространена точка зрения о том, что воспроизведение в современных исследованиях материалов, уже опубликованных и впоследствии отнесенных к секретным сведениям, не является правонарушением. Такая позиция представляется весьма сомнительной, так как нормативные акты (в том числе об ограничении распространения информации) не подразумевают возможности разночтений и должны исполняться в соответствии с их формулировками. Среди четырех видов информации, установленных статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ (от свободно распространяемых до запрещенных сведений), статуса «временно рассекреченной» информации не существует. Она либо может распространяться, либо нет. Поэтому, если исследователь намерен использовать опубликованную в широком доступе и впоследствии закрытую для распространения информацию, целесообраз- но ограничиться лишь ссылкой на первоначальную публикацию без каких-либо цитирований и намеков на ее фактическое содержание. Будет ли указанный источник изыматься или нет – проблема соответствующих органов, исторический опыт в нашей стране имеется. Однако если исследователь в своей статье сам воспроизводит опубликованные когда-то данные, ныне относимые к сведениям ограниченного доступа, то вопрос о составе правонарушения станет актуальным. Исследовательский энтузиазм в таком деле является плохим союзником.
Несмотря на «свежесть» темы, в 2020 году профессором МГУ им. М. В. Ломоносова В. А. Том-синовым был опубликован первый историографический обзор европейских исследований, посвященных крымской сецессии и связанной с нею роли военных [19]. В этом же году на русском языке была опубликована написанная в 2017 году монография британского историка, отставного генерал-майора Мунго Мелвина (ссылки в статье даются на британское издание [25])2. На этом фоне отсутствие систематизирующих работ применительно к российским публикациям выглядит досадным белым пятном.
Цель данной статьи – формулировка основных вопросов военной истории Крымской весны, интересующих российских авторов, и систематизация результатов их исследований. В настоящий период это именно вопросы, не приобретшие проблемных формулировок из-за довольно схожих исследовательских подходов. Умозрительно можно было бы выделить несколько ключевых пунктов для сравнения исследовательских позиций: военные предпосылки принятия Республики Крым и города Севастополь в состав Российской Федерации, состав использовавшихся вооруженных формирований, терминологическое определение роли военных формирований в Крымской весне, причины успеха военной операции (в том числе практического отказа украинских войск от сопротивления), а также последствия крымских событий для военно-стратегического положения России. Однако не все перечисленные вопросы на сегодняшний день стали объектами дискуссий ввиду недостаточной ретроспективности сюжета – их обсуждение для современников представляется банальным.
Учитывая анализ точек зрения авторов на современные им события, историк не должен отказываться от использования в историографическом исследовании и публицистических работ. В настоящий период публицистика представляется в качестве начального, довольно эмоционального этапа развития исторического знания о Крымской весне. Подобный подход был обоснован еще в советской историографии, в частности одним из создателей томской историографической школы Б. Г. Могильницким [11]. При этом необходимо учитывать такие особенности публицистики, как некритическое отношение к источниковой базе, частое игнорирование вклада своих же коллег в изучение вопроса, слабость и поверхностность выводов, внутренняя проти-воречивость3, а также яркая политическая ангажированность большинства подобных публикаций. Тем не менее ценность публицистического подхода видится в спонтанной постановке важных вопросов, обновлении терминологического аппарата и сохранении эмоционального фона, сопровождавшего изучаемые исторические процессы.
***
Военно-стратегические интересы России в Причерноморском регионе всегда были в фокусе внимания историков и политологов4. Несмотря на то что ни в одной серьезной работе заинтересованность России в сохранении военно-морской базы на Крымском полуострове не ставится в качестве главной причины крымской сецессии, обеспокоенность за ее судьбу (в том числе и со стороны Украины) никогда секретом не являлась. Хотя харьковское «Соглашение между Российской Федерацией и Украиной по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины» от 21 апреля 2010 года продлевало существование базы ВМФ минимум до 2042 года, было много причин опасаться за его выполнение. Причины обеспокоенности России были обобщены профессором КубГУ А. В. Барановым: так, еще в 2006 году украинским руководством был поднят вопрос о повышении стоимости аренды земли для базы ВМФ вдвое, выдвинуты требования предоставить план вывода Черноморского флота с территории Украины, запретить свободное передвижение российских военнослужащих по украинской территории. Украинское руководство раздражала предельная численность российских войск (хотя вместо оговоренных 25 тысяч на полуострове дислоцировались 14–16 тыс. российских военнослужащих, что было значительно меньше численности украинских войск в Крыму) и проживание на полуострове демобилизованных россиян. Наконец, само существование российской военно-морской базы логически не соответствовало стремлению Украины в Евросоюз и НАТО [1], [2: 16–17]. Первые шаги нового правительства в Киеве после свержения президента В. Януковича (в том числе освобождение из заключения противницы российского военного присутствия – Ю. Тимошенко) не оставляли у российского руководства ника- ких сомнений в дальнейшем развитии событий. В итоге профессор Института экономики РАН, ветеран Великой Отечественной войны А. Н. Быков (1924–2015) назвал угрозу российской военно-морской базе в Севастополе одной из трех основных причин принятия Крыма в состав России (наряду с обострением ситуации на Украине и угрозой русскоязычному населению Крыма) [3: 61]. При этом российское военное присутствие в Крыму изначально было не компактным, а «рассеянным», что создавало условия для перемещения воинских подразделений по всему полуострову и положительно сказалось на событиях Крымской весны [21: 224].
Однако каким могло быть дальнейшее развитие событий? Этот вопрос возник именно в военной публицистике. Одним из первых его поднял блоггер и общественный деятель Д. Н. Верхотуров. Работая над масштабным обзором военной истории Крыма (и совершенно забывая о тематической направленности своей работы применительно к разделу о Крымской весне), автор задался вопросом о причинах отказа России от признания Крыма независимым государством по примеру Абхазии и Южной Осетии, не получивших международного признания [4: 263–264]. Собственного варианта ответа на поставленный вопрос автор не привел. Точку зрения политолога высказал профессор Волгоградского института управления И. Л. Морозов, акцентируя внимание на непро-думанности со стороны российского руководства последствий проводимых акций: по его мнению, Россия рассчитывала на признание де факто своих действий мировым сообществом и благоприятных для себя политических изменений в западном лагере. Однако если в случае с северокавказскими новообразованиями Россия понесла серьезные репутационные потери и получила «отложенный» территориальный конфликт [12: 346–347], то в крымской ситуации наша страна оказалась под жестким давлением международных санкций.
Примечательно, что за кадром обсуждения причин воссоединения Крымского полуострова с Россией у исследователей остаются не только территориальная изолированность Крыма (по договору 2010 года мост на материк должен быть построен уже к 2014 году), но и его сложная административная структура: объединение Республики Крым в одно государственное образование со всегда претендовавшим на особый статус городом-героем Севастополь могло породить ненужные в тот момент споры. В тени исследований остался и анализ степени доверия российской политической элиты к обновленному крымскому руководству; известно, что в предшествовавшие десятилетия отношения между пророссийскими движениями Крыма и Москвой не всегда были эффективными5. Отделяющемуся от Украины Крыму должен был понадобиться огромный объем ресурсов (энергетических, промышленных, продовольственных и т. д.), стоимость которых вряд ли компенсировала бы арендная плата за воинские объекты. Кроме того, готовность России вмешаться в крымские дела в любом случае вызвала бы недовольство со стороны ведущих европейских и американских государств, поэтому вариант принятия Республики Крым и Севастополя в состав России представляется оптимальным, а в отечественной трактовке международного права – и легитимным.
Наиболее пристальное внимание военным аспектам Крымской весны среди российских авторов уделил А. Б. Широкорад. Он стал одним из первых российских исследователей, включивших материалы о Крымской весне в свои книги (так, «Битва за Крым» была подписана в печать уже 16.04.2014 г.). Но особое значение имела претендовавшая на статус монографии книга [21], опубликованная после издания в Киеве подробного очерка Т. В. Березовца [23]. В условиях информационной войны был важен российский ответ на украинские обвинения, однако А. Б. Широкорад такой цели не преследовал. Его вклад можно свести к нескольким пунктам. Во-первых, это подробное описание событий не только с почасовой точностью, но и с указанием воинских частей, номеров и названий кораблей (в основном украинских). Подобная манера могла ассоциироваться с добротным позитивизмом, если бы не отсутствие видимой критики источников («я лично слышал») и, соответственно, сложность верификации приводимых сведений. Во-вторых, А. Б. Широкорад является сторонником мнения об изначальной неготовности ни российских, ни украинских сил в Крыму к серьезным военным операциям, что может частично объяснить относительно мирный ход событий. Все силы, обеспечившие успех Крымской весны, были заброшены на полуостров в феврале – марте 2014 года. Более того, А. Б. Широкорад солидарен с точкой зрения о якобы отсутствии у российского руководства к началу марта плана включения полуострова в состав страны [21: 171]. В-третьих, его публицистический стиль носит специфический характер, ассоциирующийся с самосознанием русскоязычного населения Крыма постсоветского периода. В работе проскальзывает недоверие как к российским государственным структурам, так и к прежнему украинскому руководству, активно используется понятие «украинская оккупация Крыма» и акцентиру- ется роль пророссийских организаций в Крымской весне. Автор часто цитирует воспоминания севастопольцев6 и не стремится ориентироваться на официальные российские документы, в том числе приводя сведения о жертвах в ходе нейтрализации украинских военных баз [21: 197] (это противоречит содержанию президентского Послания от 18.03.2014 г.). Историки обычно критикуют А. Б. Широкорада с профессиональных позиций, однако его работы о Крымской весне выходят за пределы компилятивной исторической публицистики и интересны как минимум с источниковедческой точки зрения – как и книга В. Н. Баранца (там, где он использует свои информационные источники).
Кто конкретно выполнял боевые задачи в период Крымской весны? Учитывая гражданский статус большинства исследователей, участвовавшие в крымской операции силовые структуры выглядят единым блоком («комбатанты без опознавательных знаков различия» [12: 347]), чаще всего ассоциирующимся с термином «вежливые люди»7. Более широко состав ударных сил в Крымской весне сформулировал профессор ЮФУ, полковник Д. А. Лоншаков – «армия, ополченцы и казаки» [10: 412], подразумевая под «армией» прежде всего войска Черноморского флота России и спецназ. Видимо, в состав последнего нужно включить и бывшее спецпод-разделение МВД Украины «Беркут», в разгар крымских событий подчиненное севастопольскому и республиканскому руководству. Поэтому представление о местных силах лишь как о плохо подготовленных ополченцах явно не соответствует действительности.
Для самих крымчан было понятно, что занявшие здание Верховного Совета Крыма в ночь на 27 февраля «люди в черном» и знаменитые «зеленые человечки» – это разные подразделения, что было видно по экипировке, выполняемым задачам и различной степени доверия к ополченцам. При этом в литературе сложился своеобразный «ангельский» образ защитников здания Верховного Совета, неизвестно откуда взявшихся и пришедших на помощь пророссий-ским силам. Лишь в мемуарной литературе можно заметить уверенность, что эти силы были связаны с председателем крымского парламента изначально8.
Если первоначально участие российских военнослужащих в операциях на территории Крыма отрицалось, то в дальнейшем усилению общественного интереса к этой теме способствовали российские средства массовой информации и кинематограф. Особое значение до сих пор играет фильм «Крым. Путь на Родину» (2015) со сценами захвата украинских баз российскими военными9. Можно предположить, что заказчиком подобных фильмов стала российская элита в лице силовых структур, заинтересованная в ухудшении имиджа страны за рубежом.
В условиях информационной войны в сеть Интернет было выложено множество видеосюжетов из жизни российских боевых подразделений, атакующих воинские объекты. Однако подлинность их не доказана: так, некоторые видео с десантирующимися в Крым военнослужащими включают в кадр маковые поля, что говорит о съемке тренировочных сюжетов в мае – июне на территории уже российского Крыма (а может, и не Крыма вообще). Более того, сенсационный репортаж в упоминавшемся фильме о штурме феодосийской базы морской пехоты, входившей в состав сил немедленного реагирования НАТО, первоначально не нашел ожидаемого отклика у исследователей и был сведен в статье полковника Д. А. Лоншакова к кулачному столкновению «стенка на стенку» с участием старших офицеров [10: 412]. Позднее другими историками операция была описана с участием вертолетного десанта и бронетранспортеров; при этом источником информации стали испуганные признания украинского командира [8: 267–268]. Лишь в изложении В. Н. Баранца все детали соединились в «очень серьезную потасовку со стрельбой в воздух и мордобоем»10.
Гиперболизацию роли военных в освещении крымских событий первыми заметили сами крымчане. В частности, резкую критику с их стороны вызвали документальный фильм «4-я оборона Севастополя» и художественный фильм «Крым», в которых якобы слабо прослеживалась роль региональной общественности. Создателям фильмов было вменено выражение украинской точки зрения, согласно которой события февраля – марта 2014 года были «актом военной агрессии» со стороны России [17: 164]. Одной из причин такой реакции крымчан было принижение роли в весенних событиях не только гражданского населения, но и крымского ополчения (отрядов самообороны, «блокпостовцев»). Между тем народное ополчение в Севастополе начало оформляться еще в декабре 2013 года; 23 февраля 2014 года здесь были сформированы десять рот ополчения. За несколько дней численность ополченцев достигла 10 тыс. человек [15: 217, 221], была создана даже крымско-татарская рота [5: 120]. По словам очевидцев, к 26 февраля отряды самообороны еще не представляли реальной силы из-за разрозненности и личных амбиций лидеров11, зато в этот же день спецподразделение «Беркут» было подчинено новому руководству Севастополя. Несмотря на публикацию мемуа-ров12, операции гражданского населения в рядах ополченцев на сегодняшний момент практически не изучены, об их штурме военного корабля «Славутич» в Севастополе упоминает только А. Б. Широкорад [21: 231].
По словам С. В. Аксёнова, у ополчения с самого начала было достаточно гладкоствольного оружия: «мы могли перешеек занять сразу и сюда уже никого не пускать» [5: 27]. Однако одним Перекопским перешейком события ограничиваться не могли. Анализируя фотоматериалы, профессор канадского университета «Мемориал» А. Н. Олейник отметил, что ополчение имело на вооружении современное стрелковое оружие и другую технику российской армии (интересно, сколько среди имеющихся снимков было постановочных «фото на память»?). Это должно было говорить о поддержке ополченцев со стороны военного руководства, так как, «полагаясь на инициативу снизу, получить такую технику и оружие вряд ли возможно» [16: 198]. Но предложенное А. Н. Олейником распространение на отряды самообороны термина «титушки» было дружно проигнорировано в отечественной литературе не только ввиду оскорбительного для крымчан происхождения, но также цели создания, численности и степени организованности отрядов самообороны в Крыму – показателей, явно не стыкующихся с деятельностью хулиганских временных провластных группировок на Украине.
Еще меньше повезло в историографии казакам Кубанского войска, чья численность известна [10: 412], но действия не изучены; мемуаристы отмечают лишь отдельные шаги по защите памятников культуры и пресечению земельных са-мозахватов13. Между тем важность изучения казачества обусловлена его статусом общественной организации с четкой субординацией и навыками владения оружием. Это делает возможным привлечение казаков к решению сложных вопросов с другими (в том числе национально ориентированными) организациями Крыма без вмешательства силовых структур и возможных репутационных потерь для государства.
Важным вопросом стали причины пассивного поведения украинских войск, количество которых первоначально намного превышало численность российских. Изначально все исследователи отметили небоеспособность украинских воинских частей и невозможность своевременной переброски новых подразделений с континентальной Украины на полуостров. Подобные формулировки подразумевали желание сопротивляться при фактической беспомощности. Иной акцент поставил московский политолог П. В. Тарусин, назвав причиной выжидательной позиции украинских войск разрушение поли- тических каналов управления армией, что сделало невозможным не только сопротивление, но и организованный выход украинских войск с полуострова [18: 244]. Такой подход вообще ставит под вопрос изначальное желание украинских войск выполнять свой профессиональный долг. Косвенно схожей позиции придерживается и Д. А. Лоншаков с версией о потенциальных серьезных последствиях разгрома ВСУ для Украины, вплоть до очередной смены политического режима в Киеве [10: 413]. Не забыта и агитационная работа в украинских воинских частях со стороны крымчан, предотвратившая выступление военных на стороне Киева [8: 267]. Наконец, в публицистике высказывается мнение об изначальном предназначении украинских войск лишь для возможной борьбы против местного населения [21: 239].
Более системно к этому вопросу подошел британский генерал-майор Мунго Мелвин, сформулировав четыре причины пассивности украинских войск: тесные контакты между украинскими и российскими военнослужащими в Крыму, дезинформация СБУ и других структур проникшими в них российскими агентами (один из таких случаев описан В. Н. Баранцом14), отсутствие волевых решений со стороны киевского командования и массовое дезертирство украинских военнослужащих [25: 616–617]. Последние два пункта частично основаны на российских источниках.
Как ни странно, слабо обсуждаемой проблемой является характер использования российских вооруженных сил в Крымской весне. На это повлияли, с одной стороны, общая эйфория от их успеха, с другой – нежелание акцентировать использование отнюдь не «мягкой» силы на территории соседнего суверенного государства. Генеральной линией отечественных историков является мнение о том, что присутствие российских военнослужащих лишь позволило избежать кровопролития и свободно осуществить крымчанам свое волеизъявление [8: 279], [21: 239]. По словам А. Р. Никифорова, российские военные не осуществляли непосредственного вмешательства в ход политических процессов в Автономной Республике Крым [14: 750]; видимо, описываемое им же давление на «неугодных» политиков осуществляли силы самообороны. По словам самих участников сопротивления, при блокировании украинских частей российские войска «всегда находились позади нас», а массовое присутствие гражданских лиц «не позволило украинским военным выполнять приказы из Киева»15.
Пользуясь ситуацией, инициативу взяли в свои руки политологи, охарактеризовав- шие произошедшее как «гибридную войну»16. По мнению А. Н. Харыбина, в ее состав следует включить три основных компонента – информационно-психологическое давление, партизанские и диверсионные операции, а также активную роль местного населения как «пятой колонны» [20: 24]. Такой подход удобен отсутствием акцента на каком-либо упомянутом компоненте, что импонирует участникам ополчения и СМИ. С другой стороны, он оставляет лишь одно определение действиям российских военных – диверсионная операция, что вряд ли укладывается в привычное значение этого термина. Однако историки не спешат с использованием понятия «гибридная война» применительно к Крымской весне. Различный характер событий в Крыму и в Восточной Украине в 2014–2021 годах неоднократно подчеркивался и российским руководством при обосновании причин использования военных сил («чтобы не было так, как на Донбассе»). Станет ли Крымская весна изучаться как один из этапов большой «гибридной войны» – покажет время. Так или иначе, на сегодняшний момент четко озвучить несогласие с термином вновь пришлось британскому специалисту. Во-первых, Мунго Мелвин предложил собственный термин применительно к войнам нового типа – «многомерная» (multi-dimensional) война; во-вторых, он призвал не пользоваться шаблонами и исходить из конкретики, в данном случае – открытого военного базирования российских войск на полуострове и поддержки со стороны большинства местного населения [25: 628–630], что никак не ассоциируется с действиями диверсантов и партизан. Тем не менее отдельные элементы «гибридных войн» в крымских событиях присутствуют, и в их методологическом понимании Мелвин ориентируется на известную статью своего российского коллеги17.
После блестящего успеха российских военных в Крыму у общества появилась потребность в героизации характера их действий, открыто претендующей на мифотворчество. Стремление к мифологизации и сакрализации эпизодов Крымской весны было отмечено специалистами Российского института стратегических исследований. Так, к мифам отнесены термины «вежливые люди» и «идеальные солдаты» из спецподразделения «Беркут». Наличие позитивных мифов (формируемых ныне профессионалами) в статье рассматривается в качестве надежной основы агитации и пропаганды [7: 209–210], образцом чего и стал цитируемый публицистический опус.
Героизация военных сюжетов Крымской весны идет гораздо медленнее ожидаемого и выражается в работе над образом «вежливых лю- дей», в честь которых в 2015 и 2021 годах были установлены Дни Сил специальных операций и «вежливых людей». Нехватка конкретных героев среди рядового воинского состава говорит об отсутствии жертв и относительно мирном характере операций; в научной литературе не отражены и действия конкретных руководителей, в том числе награжденных по итогам крымских событий. Однако общество всегда нуждается в объектах поклонения. В итоге затопленный в заливе Донузлав российский противолодочный корабль «Очаков» был признан «сыгравшим исключительную роль» в истории России и вызвал ассоциацию с подвигом крейсера «Варяг»18. В украинской литературе работа в данном направлении идет более активно, и даже «экзотичная процессия» (выражение В. Н. Баранца) украинской 204-й авиационной бригады на Бельбек названа «моральной победой» и «психологической атакой» на агрессивных «зеленых человечков» [23: 118].
Наиболее ярко сакрально-религиозную концепцию роли российских военных представила красноярский историк Е. А. Шушканова. Рассматривая события 2014 года как «военный конфликт нового формата», она пришла к выводу о мессианском характере действий российских военнослужащих. Такой поворот в ее интерпретации связан «с особенностью российского культурного кода, национального менталитета, русского архетипа». При этом автор признала, что мессианство как таковое не вписывается в рамки рационального подхода и ассоциируется у части интеллигенции с общественно-политическими деформациями [22: 184]. Свои претензии к использованию данного термина (напрямую связанного с Апокалипсисом) могут высказать и теологи, хотя на бытовом уровне многие крымчане действительно воспринимали российских военнослужащих как спасителей от победившего в Киеве режима. Религиозная сторона военных сюжетов вполне могла быть изучена и на вполне рациональной основе, если бы роль православных священников в Крымской весне не освещалась крайне редко19.
Никаких дискуссий ни в российской, ни в зарубежной литературе не вызвал вопрос о численности российских войск. Даже в решающие моменты крымских событий она не превысила предварительных договоренностей с Украиной и составила около 22 тыс. из допустимых 25 тыс. военнослужащих. При этом известные украинские авторы признают, что при внешней сопоставимости количественных показателей личного состава и вооружения российских и украинских войск число боеспособных батальонов наземных сил РФ в 4,4 раза превышало показатель украинских подразделений [6: 48].
Не вызвали дискуссий и военные последствия Крымской весны. В отечественной науке они оцениваются только положительно. Это объясняется реальным достижением поставленных перед военизированными подразделениями задач и незавершенностью комплекса их последствий до настоящего времени. Но если вначале исследователи отмечали лишь качественно новый уровень развития военно-стратегического положения России, то в конце 2010-х годов значение Севастополя как военно-морской базы стало выявляться более рельефно из-за операций в Средиземноморье [13: 299]. Таким образом, вооруженные силы стали одной из сторон, усиливших свое влияние из-за Крымской весны.
ВЫВОДЫ
На сегодняшний момент изучение роли военных в Крымской весне ведется как в научной литературе, так и в публицистике при значительном превалировании последней. Это объясняется ранним этапом развития исторического знания о событиях 2014 года и специфическими функциями публицистики, в том числе в формировании массового сознания. Под влиянием общественной эйфории и узкого спектра источников историческое знание изучаемых аспектов находится в форме художественных образов и наукообразного мифотворчества. Необходимо признать, что такова специфика проблемы: военная история традиционно обрастает иррациональными образами, отвечая на идеологические и эстетические запросы общества. Тем не менее историки стремятся корректировать явные перехлесты в анализе событий, опираясь на доступную источниковую базу.
Несмотря на тактический успех «маленькой победоносной весны», в настоящий период изучение ее военных аспектов находится в «режиме ожидания». В научной литературе не обоснована ни одна версия о происхождении военнослужащих, захвативших здание Верховного Совета и Совета Министров Крыма20 (для одних современников это был «вопрос не первый, не второй и даже не десятый»21, а других он просто раздражает [5: 91]); слабо изучены действия Черноморского военно-морского флота; не проанализирован механизм перехода на российскую сторону (так называемой «мягкой интеграции») представителей дислоцированных в Крыму украинских силовых структур (в том числе их высших чинов). Список белых пятен обширен. Но причина временного отказа от всестороннего изучения военных аспектов событий 2014 года заключается не столько в недоступности ряда ведомственных документов, сколько в удовлетворенности общества результатами публицистического освещения недавних событий. Длинные цитаты непроверенного содержания из «документально-исторического романа» встречаются даже в научной литературе [8: 241–245]; на публицистику ссылаются и при описании количественных показателей украинской армии [14: 749]. Такая ситуация объективна и будет меняться по мере расширения источниковой базы.
Так или иначе, изучение военных аспектов не может быть искусственно изолировано от ана- лиза как действий местных сил самообороны, так и развития ситуации на материковой части Украины. При этом необходимо акцентировать поддержку силовыми структурами именно действий регионального сообщества, которое по сути было неотделимо от военнослужащих и их семей (например, в Севастополе). Военные формирования не должны быть представлены в качестве инородного тела, исполняющего свои узкоспециализированные задачи лишь по указаниям из Москвы.
Список литературы Российские исследователи и публицисты о роли военных в крымской весне
- Баранов А. В. Конкуренция России и НАТО в Черноморском регионе: военные аспекты // Потемкинские чтения: Сб. материалов II Междунар. науч. конф. / Отв. ред. О. В. Ярмак. Севастополь, 2017. С. 75-76.
- Баранов А. В. Этнополитические конфликты на Северо-Западном Кавказе и в Крыму: сравнительный анализ. Ростов н/Д: Фонд науки и образования, 2015. 235 с.
- Быков А . Н . Украинские события и их воздействие на интеграционный процесс на постсоветском пространстве // Вестник научной информации. М.: ИЭ РАН, 2015. № 2: Украинский кризис: причины, эволюция, уроки. Ч. 1. С. 61.
- Верхотуров Д. Н. Военная история Крыма. От Ивана Грозного до Путина. М.: Яуза, 2016. 288 с.
- Григорьев М. С., Ковитиди О. Ф. Крым: история возвращения. М.: Кучково поле, 2014. 400 с.
- Донбасс и Крым: цена возвращения / В. П. Горбулин, А. С. Власюк, Э. М. Либанова, А. Н. Ляшенко. Киев: НИСИ, 2015. 224 с.
- Кризис на Украине и крымские события 2014: практика информационной войны. М.: РИСИ, 2015. 628 с.
- Крым в новейшей истории российско-украинских отношений / В. Г. Егоров, С. Я. Лавренов, О. А. Зозуля, Д. М. Майборода. СПб.: Алетейя, 2021. 364 с.
- Куренков Г. А. На стыке истории, права и защиты информации (вопросы изучения истории государственной тайны) // Историческая наука в XXI веке в фокусе современного гуманитарного знания: традиции, новации, преемственность. Рязань: РязГУ, 2016. С. 84-88.
- Лоншаков Д. А. Деятельность российской армии по обеспечению мирного характера воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией // Причерноморье в контексте российской цивилизации: история, политика, культура. Краснодар: КубГУ, 2019. С. 408-414.
- Могильницкий Б. Г. История исторической мысли как предмет историографического исследования // Проблемы историографии и истории общественной мысли: к 75-летию академика М. В. Нечкиной. М.: Наука, 1976. С. 233-243.
- Морозов И. Л. «Крымский прецедент» в геостратегии современной России // Причерноморье в контексте российской цивилизации: история, политика, культура. Краснодар: КубГУ, 2019. С. 341-349.
- Мохов А. В., Сенюшкина Т. А., Муравьева Н. Н. Воссоединение Крыма с Россией как геополитический процесс // Причерноморье в контексте обеспечения национальной безопасности России. Краснодар: КубГУ, 2020. С. 297-301.
- Никифоров А. Р. «Крымская весна» 2014 г. // История Крыма: В 2 т. / Под ред. А. Ю. Юрасова. М.: Кучково поле, 2019. Т. II. С. 741-752.
- Никифоров А. Р. «Крымская весна»: замыкая круг // Право крымчан на самоопределение: предпосылки и эволюция «крымской весны». М.: Аспект-Пресс, 2020. С. 210-224.
- Олейник А. Н. Аналитический обзор событий «Россия - Украина» // Политическая концептология. 2014. № 4. С. 197-216.
- Соколов Д. В. Историография «Крымской весны»: интерпретации, проблемы и перспективы // Журнал российских и восточноевропейских исторических исследований. 2018. № 1 (12). С. 158-170.
- Тарусин П. В. «Крымская весна»: выбор пути на историческую родину // Право крымчан на самоопределение: предпосылки и эволюция «крымской весны». М.: Аспект-Пресс, 2020. С. 225-252.
- Томсинов В. А. Референдум о сецессии в конституционном и международном праве // Право крым-чан на самоопределение: предпосылки и эволюция «крымской весны». М.: Аспект-Пресс, 2020. С. 83-105.
- Харыбин А. Н. Присоединение Крыма к России в 2014 году: особенности и основные проблемы // Национальная безопасность и стратегическое планирование. 2018. № 3 (23). С. 22-29.
- Широкорад А. Б. Крым - 2014. Как это было? М.: Вече, 2016. 352 с.
- Шушканова Е. А. Военный конфликт в контексте проблемы русского мессианства (на историческом примере присоединения Крыма) // Россия в войнах и локальных военных конфликтах ХХ - начала XXI в. Стерлитамак: БашГУ, 2019. С. 181-187.
- Березовець Т. В. Анекия: Острiв Крим. Хрошки «пбридно! вшни». Кшв: Брайт Стар Паблшинг,
- 2015. 391 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://royallib.com/book/berezovets_taras/aneksya_os-trv_krim_hronki_gbridnoy_vyni.html (дата обращения 20.02.2022).
- Lewis J. Рец. на кн.: Melvin M. Sevastopol's Wars: Crimea from Potemkin to Putin. Oxford; New York: Osprey Publishing, 2017. 752 p. // British Journal for Military History. 2017. Vol. 4, № 1. Р. 122-124.
- Melvin M . Sevastopol's Wars: Crimea from Potemkin to Putin. Oxford; New York: Osprey Publishing, 2017. 752 p.