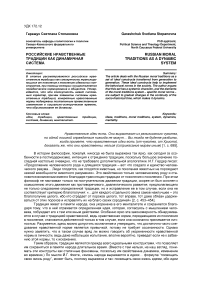Российские нравственные традиции как динамичная система
Автор: Гаращук Светлана Степановна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 18, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются российские нравственные традиции как совокупность транслирующихся от поколения к поколению идеальных конструктов, при помощи которых осуществляется поведенческое нормирование в обществе. Утверждается, что эта совокупность имеет системный характер, причем элементы системы нравственных традиций, конкретные нравственные нормы подвержены постепенным преемственным изменениям в социально-историческом времени, что обусловливает ее динамику.
Идеи, традиции, нравственные традиции, система, динамика, менталитет
Короткий адрес: https://sciup.org/14937560
IDR: 14937560 | УДК: 172.12
Текст научной статьи Российские нравственные традиции как динамичная система
The article deals with the Russian moral traditions as a set of ideal constructs transferred from generation to generation. These ideal constructs help to implement the behavioral norms in the society. The author argues that this set has a systemic character, and the elements of the moral traditions system – specific moral norms – are subject to gradual changes in the continuity of the socio-historical time, which makes it dynamic.
Нравственные идеи есть. Они вырастают из религиозного чувства, но одной логикой оправдаться никогда не могут… Вы тогда не будете разбиты, когда примете, что нравственные идеи есть (от чувства, от Христа), доказать же, что они нравственны, нельзя (соприкасание мирам иным) [1, с. 695].
В истории философии, пожалуй, никогда не была выражена так ярко, как сегодня (в особенности в постмодернизме), интенция к отрицанию традиции, поскольку большое значение последней настолько очевидно, что не требовало дополнительной апологетики. И.Г. Гердер писал: «Продолжение человеческого рода и длящаяся традиция – вот что создало и единство человеческого разума… Люди плодятся, как плодятся животные, но поколения животных не порождают некоей всеобщности животного разумения». Это свойственно только человеческому роду и становится возможным именно благодаря трансляции традиции от поколения к поколению. При этом философ не настаивал только на поступательном движении традиции, скорее он был склонен к осмыслению этого движения как противоречивого, диалектического развития, предполагающего не только следование определенной традиции, но и исправление ее в том случае, если она не соответствует критерию благополучия: «…для каждого отдельного звена самое наилучшее – это благополучие целого, ибо кто страдает от пороков целого, тот вправе, тот даже обязан удерживаться от этих пороков и исправлять их на благо своих сородичей» [2, с. 453–454].
Традиция живет в памяти народа, она укоренена в его менталитете и сохраняется благодаря тому, что в ней отражается определенная идея, которая, согласуясь с мышлением человека, побуждает его к тем или иным действиям. Особенно ярко эта закономерность обнаруживается в случае с традицией нравственной, ведь нравственная норма, передающаяся из поколения в поколение, становится действенной только в том случае, если она осознанно принимается личностью. Разумеется, здесь можно допустить исключение и утверждать, что достаточно часто следование нравственной норме является привычкой, потому не требует осознанности. Однако нужно заметить, что в таком случае вряд ли можно говорить об укорененности нравственной нормы в личности, ведь даже небольшое испытание, вполне вероятно, приведет если не к забвению этой нормы, то к искажению.
Таким образом, традиции являются прежде всего идеальными конструктами, что позволяет им сохраняться в памяти народа длительное время. (Вместе с тем нельзя, на наш взгляд, понимать эти конструкты как статичные феномены, поскольку им свойственна динамика, изменение во времени.) По мысли Й.Г. Фихте, «жизнь народа выражается в идеях… формула “посвящать свою жизнь роду”, может быть, поэтому выражена и так: посвящать свою жизнь идеям, ибо идеи объемлют род как таковой и его жизнь, и сообразно с этим разумная и, следовательно, справедливая, хорошая и истинная жизнь состоит в том, чтобы забывать себя в идеях и не искать и не знать иного наслаждения, кроме наслаждения идеями и принесения им в жертву всех остальных житейских наслаждений». Отсюда он делает вывод о том, что «личность должна быть приносима в жертву идее; та жизнь, которая осуществляет это, есть единственно истинная и справедливая жизнь» [3, с. 39].
Здесь, разумеется, следует возразить великому мыслителю, творившему задолго до того, как человечество столкнулось с феноменами тоталитаризма и мировыми войнами, тесно связанными с ним. Идеи могут иметь различный характер, и далеко не всегда личности стоит приносить им себя в жертву. К тому же социальные идеи (как и традиции, на них основанные) изменяются, диалектически развиваются, а происходит это развитие как раз благодаря личности (вернее, их совокупностей), и жертвенное служение обществу состоит, скорее, в совершенствовании этих идей.
Однако отметим и справедливость высказывания мыслителя, на наш взгляд верного, при внесении следующего уточнения: личность должна приносить себя в жертву конкретной идее, если она согласуется с общей идеей нации, которая, по В.С. Соловьеву, «есть не то, что она сама думает о себе во времени, но то, что Бог думает о ней в вечности» [4, с. 42]. Но здесь возникает трудность, преодолеть которую далеко не просто: как обосновать то, что та или иная идея действительно согласуется с идеей нации, если нация, судя по высказыванию, во времени о последней не думает, точнее - думает, но не о ней?
Представляется, что для преодоления затруднения не обойтись без еще одной общей идеи -идеи социально-исторической предопределенности или в религиозном аспекте - идеи божественного Промысла. Если ее принять, то есть поверить в нее, поскольку рациональное обоснование здесь неосуществимо, тогда эмпирически возможно выявление частных идей, согласующихся с общей идеей нации, и поможет в этом внимательное и бережное отношение к традициям, также, как выяснено, идеальным конструктам, для которых характерно важное в данном контексте свойство - проверенность временем.
Итак, мы можем утверждать, что у всякой нации существует определенная динамичная совокупность частных идей, составляющих в общем ее традицию, причем эти идеи находятся в состоянии системной координации и субординации. Следовательно, возможно говорить, например, о российской системе традиций или, сужая понятие, о российской системе нравственных традиций. Конечно, эта последняя система будет включать нравственные традиции как общечеловеческие, поскольку российский суперэтнос не развивался в изоляции, так и особенные. (Под российским суперэтносом мы будем понимать общественное образование, которое «включает в себя большие и малые этносы, объединенные исторически, географически, политически, экономически и духовно-культурно в границах Российской Федерации» [5, с. 73], а также соотечественников, проживающих за рубежом и идентифицирующих себя в качестве представителей российской цивилизации.) Но важно отметить, что система в целом имеет особенный характер, являясь сложной совокупностью отношений и связей универсальных и уникальных нравственных норм.
Далее в российской системе нравственных традиций можно выделить отдельные совокупности передающихся из поколения в поколение нравственных норм, регулирующих отношения личности к:
-
- самой себе;
-
- своей семье и родным;
-
- окружающим, с которыми личность осуществляет постоянное взаимодействие;
-
- соотечественникам и своей Отчизне;
-
- людям и миру в целом;
-
- природе.
При таком подходе открывается возможность концептуализации каждой из выделенных совокупностей, для чего необходимо их содержательное наполнение частными традиционными нравственными нормами, характерными для российского суперэтноса. Конечно, эта задача не является простой, при ее выполнении следует учитывать, по крайней мере, две методологические трудности: во-первых, российский суперэтнос является многонациональным и поликон-фессиональным социальным образованием, потому выделить нравственные нормы, характерные для представителей различных этносов и конфессий, проблематично, и, во-вторых, рост индивидуализма в последние десятилетия сказывается на сглаживании этнических (суперэтнических) характеристик многих личностей, космополитически идентифицирующих себя с «общече-ловечеством». К тому же не следует забывать, что, решая поставленную задачу, мы имеем дело с обобщением высокого уровня, в котором погрешности неминуемы, достаточно хотя бы вспомнить, что отношение к нравственным нормам у каждого индивидуума специфично. (Но это как раз и говорит о философичности задачи, ведь философия без обобщений, как теоретических, так и эмпирических, непредставима.)
Необходимо еще одно замечание: не все нравственные нормы правомерно рассматривать изолированно в той или иной выделенной нами совокупности (как скромность относится только к самой личности). Многие из них будут входить сразу в несколько групп, а некоторые (например, проявление любви) – и во все. На наш взгляд, это только подтверждает системный характер, тесную взаимосвязь и взаимовлияние этнических (суперэтнических) нравственных традиций. Эта система, являясь достаточно стабильной, вместе с тем подвержена динамике, ее элементы изменяются, эволюционируют в социально-историческом времени, однако в нормально развивающемся обществе изменения системы должны иметь преемственный характер, что исключит возможность социальных потрясений.
Ссылки:
-
1. Неизданный Достоевский. Записные книжки и тетради 1860–1881 гг. М., 1971.
-
2. Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. М., 1977.
-
3. Фихте Й.Г. Основные черты современной эпохи // Фихте Й.Г. Факты сознания. Назначение человека. Наукоучение. Минск ; М., 2000.
-
4. Соловьев В.С. Русская идея // Соловьев В.С. Смысл любви: Избранные произведения. М., 1991.
-
5. Лагунов А.А. Русская религиозная философия: божественное и человеческое : монография. Ставрополь, 2007.
Список литературы Российские нравственные традиции как динамичная система
- Неизданный Достоевский. Записные книжки и тетради 1860-1881 гг. М., 1971.
- Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. М., 1977.
- Фихте Й.Г. Основные черты современной эпохи//Фихте Й.Г. Факты сознания. Назначение человека. Наукоучение. Минск; М., 2000.
- Соловьев В.С. Русская идея//Соловьев В.С. Смысл любви: Избранные произведения. М., 1991.
- Лагунов А.А. Русская религиозная философия: божественное и человеческое: монография. Ставрополь, 2007.