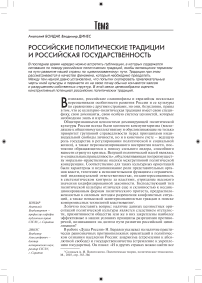Российские политические традиции и российская государственность
Автор: Бондар Анатолий Владимирович, Динес Владимир Александрович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Тема
Статья в выпуске: 4, 2008 года.
Бесплатный доступ
В последнее время нередко можно встретить публикации, в которых содержатся сетования по поводу российских политических традиций, якобы являющихся тормозом на пути развития нашей страны по «цивилизованному» пути. Традиции при этом рассматриваются в качестве феномена, который необходимо преодолеть. Между тем наукой давно установлено, что попытки скопировать привлекательные черты иной культуры и перенести их на свою почву обычно кончаются хаосом и разрушением собственных структур. В этой связи целесообразно оценить конструктивный потенциал российских политических традиций.
Короткий адрес: https://sciup.org/170164401
IDR: 170164401
Текст научной статьи Российские политические традиции и российская государственность
Российские политические тРадиции и Российская госудаРственность
В последнее время нередко можно встретить публикации, в которых содержатся сетования по поводу российских политических традиций, якобы являющихся тормозом на пути развития нашей страны по «цивилизованному» пути. Традиции при этом рассматриваются в качестве феномена, который необходимо преодолеть.
Между тем наукой давно установлено, что попытки скопировать привлекательные черты иной культуры и перенести их на свою почву обычно кончаются хаосом и разрушением собственных структур. В этой связи целесообразно оценить конструктивный потенциал российских политических традиций.
в озможно, российские славянофилы и евразийцы несколько переоценивали особенности развития Р-оссии и ее культуры по сравнению с другими странами, но они, безусловно, правы в том, что ее культурно-политическая традиция имеет свою специфику, свои доминанты, свою особую систему ценностей, которые необходимо знать и изучать.
БОНДАР Анатолий Владимирович – профессор кафедры публичного права СГСЭУ, г. Саратов
ДИНЕС Владимир Александрович – доктор исторических наук, ректор СГСЭУ , г. Саратов
Общепризнанными ценностями доминирующей политической культуры Р-оссии всегда были ценности коммунитаризма (восходящие к общинному коллективизму и обусловливающие не только приоритет групповой справедливости перед принципами индивидуальной свободы личности, но и в конечном счете – ведущую роль государства в регулировании политической и социальной жизни), а также персонализированного восприятия власти, постоянно обращающегося к поиску сильного лидера, способного вывести страну из кризиса. Ведущей политической идеей являлась и «социальная справедливость», обусловливающая по преимуществу морально-нравственные оценки межгрупповой политической конкуренции. Соответственно для таких культурных ориентаций были характерны и недопонимание роли представительных органов власти, тяготение к исполнительским функциям с ограниченной индивидуальной ответственностью, незаинтересованность в систематическом контроле за властями, отрицание высокого значения кодифицированной законности. Господствующий тип политической культуры отличался еще и склонностью к несанкционированным формам политического протеста, предрасположенностью к силовым методам разрешения конфликтных ситуаций, а также невысокой заинтересованностью граждан в поиске компромиссных технологий властвования1.
Логично поставить вопрос: наличие данных ценностных ориентаций политической культуры является следствием отсталости, примитивности общества или же в них закреплены наиболее эффективные в наших условиях принципы разрешения противоречий, возникавших на долгом пути развития российской цивилизации?
В работе «Душа Р-оссии» Н. Б-ердяев указывал на наличие практически равнозначных противоположных ориентаций в политическом сознании населения Р-оссии: анархизма (стремления к абсолютной свободе) и государственничества (стремление к укреплению государства). Он писал: «И в других странах можно найти все противоположности, но только в Р-оссии тезис оборачивается антитезисом: бюрократическая государственность рождается из анархизма, рабство рождается из сво-боды»1. В этом постоянно воспроизводимом симбиозе и заключается специфика политических традиций Р-оссии. Эта двойственность и иррационализм «русской души», ее антиномичность, проявляющаяся в готовности отдать жизнь за свободу и одновременно тотального сервилизма. Именно поэтому в российской истории на разных ее этапах создавались и в различных формах воспроизводились институты и стереотипы, соответствующие указанным выше ориентациям. Эти ориентации обусловили специфику взаимодействия российской демократии и автократии.
Р-ечь идет об одновременном сосуществовании в российском менталитете двух видов ценностей. Следует учесть, что в социологиииполитологииценноститрак-туются как «ценностное ядро» культуры, концентрированное духовное выражение способностей и интересов социальных общностей как основы мотивации человеческого поведения. Ценности можно рассматривать с двух сторон: предметной (значимые свойства реальных объектов) и нормативной (требования к поведению людей). В предметной форме ценности транслируются из поколения в поколение и составляют элемент традиции. В личном воплощении они представляют собой усвоение человеком социальных стандартов мышления и поведения.
Структура и характер ценностей, принятых в определенном сообществе, зависят от господствующих в нем представлений (понятий). Понятия обосновывают ценности, а система ценностей одновременно интегрирует и дифференцирует людей, способствуя возникновению различных социальных общностей. Она формирует «коллективный портрет» любой из этих общностей, обуславливает их своеобразие, отличие друг от друга. В конечном счете ценности выражают специфику способа адаптации социальных общностей к условиям внешней среды, способа их выживания и воспроизводства2.
Ценностные ориентации населения определенной страны в отличие от экономических интересов и политических пристрастий создаются не текущими ситуациями, а всей историей страны и составляют инвариантный набор выработанных в ходе этой истории мотивов социального действия, который отличает один его тип от другого. В этом контексте можно сказать, что традиция – живая среда человеческого бытия, в которой человек удовлетворяет свои антропологические и экзистенциональные потребности. Соответственно традиции не «следуют», ее не «соблюдают», в ней индивид и общность живут в меру своего самопознания и исторически объективных обстоятельств. Поэтому уничтожение основных принципов духовного бытия конкретных традиций народа или механизмов их передачи и есть процесс разрушения конкретного общества, его распада.
Природные особенности Р-оссии, постоянная внешняя угроза выработали особую систему ценностей с весьма специфической их иерархией, которая непосредственно проявилась в важнейших чертах этнической психологии русского народа и наложила отпечаток на весь ритм российской истории. Как отмечали крупнейшие историки С. Соловьев, Д. Иловайский, В. Ключевский и некоторые другие, у русских выработалась способность к сверхнапряжению сил для решения сложных хозяйственных или политических задач, которая, однако, сменялась затем спадом напряжения и периодом отдыха. В отличие от привычки европейцев к размеренному, ровному и постоянному труду для русских людей характерна аритмия труда и даже рваный ритм исторического развития. Под влиянием разного рода «исторических рывков» политическая культура Р-оссии приобрела удивительную устойчивость своих базовых характеристик, традиционных черт, которые остаются в силе, несмотря на изменения политических режимов. Натискам извне нарождающаяся национальная культура могла противостоять только за счет внутренних стабилизирующих балансиров, каковыми и стали важнейшие ценностные ориентации российской цивилизации.
Важную особенность русской культуры и цивилизации составляли на протяжении всей ее истории очень сложная стратификация общества, размытость соци- альных и классовых границ, что создавало предпосылки для соборного согласования социальных интересов. В отличие от Е-вропы они различались не своими правами, а обязанностями, повинностями в пользу государства1.
В целом цивилизационные особенности Р-оссии не могли не сказаться на развитии государственности. Особенности геополитического положения единственного независимого православного государства – Московского царства, зажатого католическим (позднее и протестантским) Западом и Севером и мусульманским Югом и Востоком, каждый из которых значительно превосходил Москву материальной и военной мощью, предопределили историческую судьбу русского народа и его цивилизации. В этих условиях произошло «совпадение православной, этнической и государственной самоидентификации русских»2.
Р-усское государство с момента принятия христианства основывалось на канонической теории «симфонии властей» – двуединстве светской и духовной соборных властей, государства и Церкви, существующих автономно, но равно отстаивающих православные ценности. Е-го наиболее успешной формой стало самодержавие, единственным источником власти которого был Б-ог, ограниченное лишь православной моралью и силой традиций.
Со временем важнейшей характеристикой политической культуры большинства россиян стало понимание или осознание особого значения государственности, роли государства как собирателя земель и народов, их опоры. Основного защитника православной культуры, самого существования многих народов. Поэтому чувство патриотизма русского и других народов имеет глубокие корни, органически связано с важной ролью государства в этом процессе. Соответственно политический фактор русского этнического самосознания – это прежде всего фактор, связанный с историей русской государственности.
Как замечает Ю. В. Ирхин, на протяжении столетий российская политическая культура носила авторитарно-патриар- хальный характер. Она как бы распространяла на все государство и общество принципы «Домостроя» – отношения в рамках большой семьи, где глава ее выступает в роли патриарха, который располагает всей полнотой власти в отношении родственников и в то же время проявляет необходимую заботу о каждом из них. Именно в этом ключе население рассматривало царя, называя его батюшкой, как верховного владыку, а себя как покорных подданных и все надежды на свое благополучие связывало с добрым царем3.
А-втократические традиции сформировали у населения привычку персонифицировать власть и делать ставку на сильных (эффективных) руководителей государства. Подобные руководители пользовались популярностью в Р-оссии из-за низкой политической мобильности демократических институтов, которая в свою очередь была обусловлена качественной неоднородностью (этнической, культурной, религиозной, региональной) населения страны, Однако, несмотря на это, в Р-оссии возникли и в той или иной форме воспроизводились своеобразные демократические институты, обеспечивающие согласование многообразных интересов различных частей населения. В то же время эти институты не в состоянии были обеспечить эффективность управления в силу указанных причин. Именно из-за качественного многообразия страны эту функцию могли эффективно осуществлять лишь единовластные правители. Поэтому демократическое движение в Р-оссии в ходе либеральной политической реформы возродило не только российский парламентаризм в форме Государственной думы и Совета Федерации, но и легитимную автократию в форме всенародно избираемого главы государства – президента. И новейшая история этих институтов свидетельствует о наличии множества проблем в их взаимоотношениях, а также о том, что они могут успешно осуществлять свои функции только на основе поддержки4.
Доминирующая роль государства в социально-политических процессах была предопределена и особым «мобилизационным типом развития», для которого было характерно использование в различные исторические периоды чрезвычайных средств и чрезвычайных организационных форм – либо для сохранения существования самой российской цивилизации, либо для обеспечения «догоняющего развития».
Как уже отмечалось, спецификой Р-оссии являлось взаимообусловленное сосуществование автократии и демократии. Эти противоположные начала политической жизни на протяжении большей части истории поддерживали друг друга. В те периоды истории Р-оссии, когда демократия не уравновешивалась автократией обычно общество впадало в глубокий социальный кризис. И наоборот – когда автократия не уравновешивалась демократией, власть полностью выходила из-под контроля общества, превращаясь в деспотию. В конечном счете крайности этих двух тенденций могли привести к полному разрушению несбалансированной формы государства.
Здесь также следует отметить и такую политическую традицию, как отношение к позитивному праву. «Внешняя свобода», то есть свобода личного выбора, ограниченного рационально сконструированными нормами, законами, и которая, наверное, являлась уже с ХII в. ключевым понятием западного правосознания, никогда в Р-оссии не была приоритетной ценностью и замещалась понятием «воли» как полной свободы и независимости человека. Другими словами, особенность правового архетипа русского народа проявляется с одной стороны – в справедливом осознании объективной недостаточности правовых норм, а с другой – в недооценке реальных возможностей права в регулировании социальных и других отношений. Следствием двойственности русского правосознания, отмечал митрополит Иоанн (Снычев), была «готовность с одной стороны – беспрекословно повиноваться, не претендуя на соучастие в управлении страной, а с другой – полное презрение к законам, писаным тогда, когда они не соответствуют традиционным морально-этическим императивам»1.
Следует отметить вместе с тем, что Р-оссия принадлежит традиции идущей от античности и от христианского представления о личности – традиции, для которой государство, не признающее гражданских прав и ряда свобод, вообще не может таковым называться. Государство существует для общего блага всех соотечественников, оно является не механической суммой интересов, но целым, ради которого в иных ситуациях гражданин должен жертвовать не только собственностью, но и жизнью. В. Соловьев в работе «Духовные основы жизни» писал: «Е-сть в христианском государстве господство, но господство не во имя своей силы, а во имя общего блага…Е-сть в христианском государстве подчинение, но не из рабского страха, а по совести и добровольно, ради того общего дела, которому одинаково служат и повелитель, и подданные. Существуют в христианском государстве права, но права, вытекающие не из безграничности человеческого эгоизма, а из нравственной бесконечности человека как существа богоподобного. Е-сть в христианском государстве закон, но не в смысле простого узаконения действительных отношений, а в смысле их исправления по идеям высшей правды»2.
В этом контексте можно сказать, что ведущее на сегодня положение в политической культуре российского общества занимают ценности державности, выражающие приоритет групповой справедливости перед принципами индивидуальной свободы, а в конечном счете – ведущую роль государства в регулировании политической и социальной жизни.
Отличительной чертой русской культуры являются также идеи и традиции соборности. Соборность – понятие более сложное, чем формальный коллективизм или консенсус. Это православная установка «держать внутри себя собор со всеми». В соборности осуществляется синтез мысли и действия. В социально-политическом смысле практической школой соборного жизнеустройства была крестьянская община со всеми ее плюсами и минусами. Соборность вошла в ментальность русского народа и на протяжении веков входила в межличностные и межэтнические отношения, экономику, политическую систему, культуру и другие стороны жизни Р-оссии.
2 Соловьев В. С. Избранные произведения. М., 1998, стр. 262–263
Следует обратить внимание на особую роль общины и традиций взаимоустройст-ва и взаимопомощи, на основе которых у россиян воспроизводятся устойчивые коллективистские ориентации. Это и общинность, и артельность, и коллективизм. В противоположность западному базовое русское мировоззрение содержит в себе ярко выраженную философию «мы», а не «я». Вместе с тем, по мнению С. Франка, «мы» столь же первично – не более, но и не менее, чем «я». Оно непроизводно в отношении «я», не есть сумма или совокупность многих «я», а есть исконная форма бытия, соотносительная «я»; оно есть некое столь же непосредственное и неразложимое единство, как и само «я», такой же первичный онтологический корень нашего бытия, как и наше «я»1. Другими словами, «мы», по его мнению, вообще не имеет частей. «Мы», о котором говорит С. Франк, предстает, таким образом, как независимая от «я» и «ты» и предшествующая им реальность, такая же изначальная, как и «я». Но никоим образом не уничтожающая в себе самостоятельности и неповторимости «я» и «ты»2. Следовательно, российская соборность выступает первичным единством «я» и «мы».
И еще один момент, на который необходимо обратить самое серьезное внимание, поскольку он тоже является основой формирования и развития политических традиций русского общества. Здесь имеются в виду те черты духовного склада русского народа и социальной организации его жизни, которые сформировались благодаря православию. Прежде всего это привычка воспринимать других людей как братьев, независимо от национальной принадлежности. В контексте русской культуры различные нормы, стандарты и традиции существования чаще всего не противополагались, но сополагались друг другу. И поэтому русские православные люди всегда жили с инородцами и иноверцами мирно3. Православная убежденность в равенстве людей перед Б-огом привела к пониманию необходимости равных прав для всех.
В целом же следует подчеркнуть, что в различные эпохи, в различных исторических условиях формы поведения русских людей менялись, но оставались выражением единого общего содержания. Данное положение наглядно выразил Г. Федотов в своей работе «Р-оссия и свобода». В ней он писал, что если мы вглядимся в черты советского человека, то увидим, что он очень крепок, физически и душевно, очень целен и прост, живет по указке и заданию, не любит думать и сомневаться, ценит практический опыт и знания. Советский человек предан власти, которая подняла его из грязи и сделала ответственным хозяином над жизнью сограждан. «Он очень честолюбив и довольно черств к страданиям ближнего – необходимое условие советской карьеры. Но он готов заморить себя за работой и его высшее честолюбие – отдать свою жизнь за коллектив: партию или Р-одину, смотря по временам. Не узнаем ли мы во всем этом служилого человека ХV1 века? Он ближе к москвичу своим гордым национальным сознанием: его страна единственно православная, единственно социалистическая – первая в мире: Третий Р-им»4.
Иными словами, речь идет не о нормах поведения, жестких предписаниях и запретах, а о миропонимании, мироощущении, которые прямо определяются ценностями и культурной традицией. Способы выражения их содержания, конечно, могут варьироваться, но и возможность выразить заданное содержание именно таким способом заложена в сознание народа. Хотя внешне кажется, что эти способы выражения единого содержания не имеют между собой ничего общего.
Таким образом, русский человек, и об этом свидетельствует исторический опыт, отраженный в традициях его культуры, привык ставить общественное выше личного, личную свободу подчинять потребностям коллектива, привык работать артельно. И в советское время умело использовалась способность народа к героическому порыву, самопожертвованию, коллективному труду на строительстве индустриальных гигантов, освоения Севера и т. д. Р-оссиянин не мыслит себя вне общества, и сохраняя высокую ценность коллективного труда, он требует от государства создания условий для жизнеобеспечения и развития общества, защиты фундаментальных ценностей российской культуры. Во всех этих вопросах решающая роль, естественно, принадлежит государству, как универсальному социально-политическому институту, способному обеспечить равновесие и пропорциональность в обществе.
Фактически мы имеем дело с тем, что политические традиции российского общества, реорганизуясь, эффективно приспосабливаются к изменяющимся условиям, а традиционные ценности могут даже обеспечивать источники легитимации для достижения новых целей. Однако в целом характер модификации традиций не произволен, пос- кольку он задан традицией изнутри. Общество, имея реальные и символические события прошлого, порядок и образы которого являются ядром коллективной идентичности, выступают также и определением меры и природы его социальных и культурных изменений. Традиция служит не только символом непрерывности, но и модификатором инноваций и главным критерием их законности, а также определителем пределов допустимых вариантов социальной и политической активности. Соответственно политические институты должны формироваться и реформироваться с учетом политических традиций народа, иначе он просто не сможет их освоить и применить для решения проблем своей жизни. Точно так же эти политические институты не смогут получить поддержку народа при проведении того или иного политического курса.