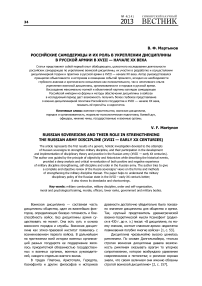Российские самодержцы и их роль в укреплении дисциплины в русской армии в XVIII - начале XX века
Автор: Мартынов В.Ф.
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: История и историография
Статья в выпуске: 4 (14), 2013 года.
Бесплатный доступ
Статья представляет собой первый опыт обобщающего, целостного исследования деятельности российских самодержцев по укреплению воинской дисциплины, их участия в разработке и осуществлении дисциплинарной теории и практики в русской армии в XVIII - начале XX века. Автор руководствовался принципом объективности и историзма в освещении событий прошлого, исходил из необходимости глубокого анализа и критического осмысления как положительного, так и негативного опыта укрепления воинской дисциплины, организованности и порядка в русской армии. Воссоздание максимально полной и объективной картины взглядов самодержцев Российской империи на формы и методы обеспечения дисциплины в войсках в исследуемый период даст возможность получить более глубокое представление о военно-дисциплинарной политике Российского государства в XVIII - начале XX века, показать её просчёты и недостатки.
Военное строительство, воинская дисциплина, порядок и организованность, морально-психологическая подготовка, боевой дух, офицеры, нижние чины, государственные и военные органы
Короткий адрес: https://sciup.org/14113851
IDR: 14113851
Текст научной статьи Российские самодержцы и их роль в укреплении дисциплины в русской армии в XVIII - начале XX века
Воинская дисциплина — составная часть дисциплины общества, один из важнейших факторов, определяющих боевую готовность и боеспособность войск. Без дисциплины армия существовать не может. Она есть суть и основа воинского порядка и службы. Воинская дисциплина как этико-правовой институт появилась с возникновением первого войска. В дальнейшем на протяжении всей истории военных организаций разных государств ее поддержание являлось приоритетной обязанностью государственных и военных органов, военных руководителей, каждого отдельно взятого воина.
В трудах Платона, Аристотеля, Геродота, Ксенофонта и других философов и историков древности достаточно убедительно было показано значение дисциплины для общества и армии. Так, крупный представитель древнегреческой военно-теоретической мысли Ксенофонт (родился в 430 г. до н. э.) писал: «В дисциплине, по моему мнению, состоит спасение армии: недостаток повиновения погубил многие войска» [1, с. 53].
Дисциплина чрезвычайно высоко ценилась римлянами. По словам Дапгельмайера, «только строгая воинская дисциплина давала возможность римлянам оказывать врагам то упорное сопротивление, которое возбуждало удивление современников и потомства; и римляне хорошо знали, что своим величием они именно обязаны строгой воинской дисциплине» [2, с. 157].
Само понятие дисциплины в трудах древних ученых и военачальников трактуется по-разному, но сводится в основном к таким словосочетаниям, как «повиновение», «порядок», «согласованность действий», «соблюдение законов». Римский военный историк Вегеций писал: «Великая армия без военных правил есть не что иное, как собрание человеков, влекомых на убиение» [3, с. 31]. Ему вторит и великий китайский военачальник Сунь-цзы, который в своем трактате «О военном искусстве» отмечал: «Когда полководец слаб и не строг, когда обучение солдат отличается неопределенностью, когда у командиров и солдат нет ничего постоянного, когда при построении в боевой порядок все идет вкривь и вкось, это значит, что в войске беспорядок» [4, с. 68].
В России слово «дисциплина» стало применяться в военной лексике и в документах со времен правления Петра I. В 1702 году в указе о призыве иноземцев в русскую армию император разъяснял, что это делается для того, «чтобы армии наши составлялись из людей, знающих воинские дела и хранящих добрый порядок и дисциплину» [5]. В 1714 году был издан Указ «О сохранении дисциплины на корабле и подсудности морских и сухопутных военнослужащих людей» [6].
В последующем слово «дисциплина» применительно к военной службе широко использовалось в приказах, указаниях, инструкциях и других военных документах, приобретая постепенно конкретный смысл. Следует отметить, что усиление или ослабление карательных мер в отношении нарушителей воинской дисциплины в исследуемый период происходило в зависимости от ситуации и личных взглядов императоров в разные периоды политического развития страны.
Уровень общественного развития определил два подхода к укреплению воинской дисциплины в исследуемый период. Первый из них был характерен для русской армии в период с начала XVIII и до середины XIX века. Заимствованная из европейских армий жестокость всех воинских наказаний [7] по законодательству Петра I привила армии карательно-устрашаю щую направленность укрепления дисциплины, поддерживающую порядок чувством страха и даже ужаса. Это вполне соответствовало уровню общественного развития, характеризовавшемуся семейным укладом, опиравшимся еще на принципы «Домостроя» [8], крепостным правом, в условиях которого розга исправляла «строптивые характеры и вразумляла тупые головы».
В результате великих реформ второй половины XIX века, способствовавших переходу России на новый уровень общественного развития, демократизации всех сторон ее жизни, на официальном уровне подход к укреплению воинской дисциплины начал меняться. Его карательно-устрашающая направленность сменилась дисциплинарно-карательной . В основу дисциплины стали закладывать «…идею воспитания, нравственного долга и сознания обязанностей».
Первым этапом развития системы укрепления воинской дисциплины в русской армии следует считать период правления Петра I. Создавая регулярную армию, Петр I большое внимание уделял поддержанию в войсках организованности, дисциплины и порядка. Воинскую дисциплину Петр I считал важным фактором боеспособности войск, достижения победы на поле боя.
Для придания государственной службе четкой организационной структуры, обеспечивавшей ее подконтрольность верховной власти, Петр I, учитывая опыт других стран, признавал необходимым установить строгую иерархию всех ее должностей. Такая иерархия должна была, с одной стороны, способствовать укреплению дисциплины и субординации, с другой — быть стимулом службы, создающим условия для последовательного продвижения по служебной лестнице каждого государственного служащего в соответствии с его способностями и заслугами.
Важным шагом к установлению твердой дисциплины в армии стало издание Устава воинского в 1716 году, который четко определил обязанности для каждого армейского чина. Именно этим уставом в русской армии была введена строгая дисциплина, которая, по мнению А. И. Хатова, «с равною строгостью действовала как на рядового солдата, так и ротного командира» [9, с. 9].
Заслуга Петра I как реформатора состоит в том, что он не остановился на подражании, а критически осмыслил и творчески переработал западный опыт поддержания в армии организованности и порядка и реализовал его в войсковой практике с учётом религиозных и национально-психологических особенностей русского солдата и матроса.
Для дисциплинарной практики в русской армии петровского периода было характерно использование жестких и даже жестоких способов наведения уставного порядка, которые были направлены прежде всего против тех, кто «…не проникся готовностью пожертвовать своими эгоистическими побуждениями — общей пользе государства» [10, с. 37]. Как и многие современники, Петр I считал, что суровые дисциплинарные меры могут предотвратить нарушения, обеспечить организованность и порядок, способствовать повышению боеготовности и достижению победы на поле боя.
В то же время, по мнению Петра I, в условиях, когда солдат становился государственным человеком, соблюдение воинской дисциплины было не слепым повиновением, а осознанным подчинением по служебным вопросам. Поэтому значимым средством укрепления дисциплины в тот период являлось воспитание личного состава на идеях защиты Отечества, воинского долга и чести, воздействие на его сознание с помощью терпеливого разъяснения требований службы [11, с. 20].
Таким образом, можно утверждать, что жесткость, справедливость и гуманизм были для Петра Великого главенствующими элементами в поддержании строжайшего порядка и дисциплины. С одной стороны, Петр I проповедовал и утверждал в армии жесткую дисциплину в рамках правового поля (часто субъективно-абсолютистского). С другой стороны, важнейшее место отводилось нравственному воспитанию армии. Принятые меры позволили Петру I обеспечить высокую воинскую дисциплину и морально укрепили армию. Вместо огромного и рыхлого набиравшегося время от времени войска Петр I создал кадровую регулярную армию в 200 тыс. человек (не считая 100 тыс. казаков), которая позволила России победить в изнурительной, растянувшейся почти на четверть века Северной войне [12].
Второй этап совершенствования системы воинской дисциплины, по нашему мнению, следует очертить временными границами «эпохи дворцовых переворотов» [13, с. 258], которая берет свое начало после смерти императора Петра I в январе 1725 года и заканчивается воцарением императрицы Екатерины II в июне 1762 года. Частые смены монархов, дворцовые заговоры и интриги, возвышение одних и падение других фаворитов и их «креатур» были довольно частым явлением в то время. А. И. Герцен писал об этом периоде русской истории: «Сегодняшние министры и генералы уже на следующий день шли закованные в кандалы на место казни или отправлялись в Сибирь» [14, с. 177].
Во времена правления Анны Иоанновны инициатором мер, направленных на укрепление дисциплины в армии, стал фельдмаршал Б.-Х. Ми-них. Будучи сторонником прусской системы управления, Миних большое внимание уделял таким атрибутам немецкого порядка, как муштра и палочные наказания. Принятые Минихом меры, хотя и носили ярко выраженную прусскую ориентацию, в целом подтянули распущенную армию, укрепили в ней воинскую дисциплину.
Период руководства армией Минихом историки оценивают неоднозначно. С одной стороны, ряд исследователей утверждают, что в тот период командные посты в армии и на флоте захватили офицеры и генералы — сторонники прусской системы укрепления воинской дисциплины. С другой стороны, некоторые историки, в частности А. К. Байов, утверждают, что «иностранцы не сыграли существенной роли, и русская армия продолжала развиваться на основах, заложенных Петром…» [15, с. 91].
К середине XVIII века состояние боеспособности русской армии не отвечало предъявляемым к ней требованиям. Находившаяся в тот момент на троне дочь Петра Великого Елизавета Петровна (1741—1762), пришедшая к власти на волне патриотизма, борьбы с иноземными порядками и возвращения петровских традиций, в том числе в армии [16, с. 399—400], не сумела на практике реализовать свои идеи. Через 25—30 лет после смерти Петра I боеспособность и дисциплина войск сильно снизились. Высшие военные посты занимали администраторы, далекие от реальных нужд армии [17, с. 123—124]. В практике укрепления дисциплины предпочтение отдавалось прусским методам, распространенным в то время во всех европейских армиях, особенно после блестящих побед Фридриха II.
Вот как характеризует дисциплинарную практику в русской армии тех лет представитель русского зарубежья А. Драгомиров: «Солдатская масса пополнялась рекрутами из худших и часто преступных элементов податного сословия… Обращение с солдатами было самое жестокое, что приводило к частым побегам. Постоянное применение жестких наказаний перестало устрашать; дисциплина неудержимо падала. Линейная тактика того времени вся была основана на полном подавлении воли каждого солдата. Проявления частной инициативы не требовалось. Страх перед палкой своего капрала был единственным стимулом в бою. Ни чувству патриотизма, ни чувству чести и собственного достоинства здесь места не было» [18, с. 245].
Все пороки существовавшей системы укрепления дисциплины в русской армии выявила Семилетняя война (1756—1763), которая в полной мере показала низкий уровень дисциплины даже в действующих войсках, выразившийся в массовом дезертирстве нижних чинов. Вместе с тем отрицательный опыт военных кампаний 1756—1762 гг. имел и свои положительные стороны. Русские войска в очередной раз подтвердили свою легендарную стойкость, о которой впоследствии Наполеон скажет, что «русского солдата мало убить, его надо еще и повалить». Участник Цорндорфского сражения (1758 г.) прусский офицер Архенгольц писал о русских солдатах и офицерах: «…они сражались храбро и мужественно, являя зрелище, какого доселе не видывали примеров» [19, с. 103].
В период краткосрочного царствования Петра III (январь-июнь 1762 г.) прусская направленность в системе укрепления дисциплины русской армии была усилена. Были введены прусские экзерциции и вахтпарады, устав и форма одежды, упразднены прославленные в боях наименования полков — велено было впредь именоваться по фамилиям шефов, изменились штаты в армии. Наблюдалась интенсивная вербовка в ряды русской армии немецких специалистов. В период правления Петра III был издан указ о вольности дворянства 1762 года, освободивший дворян от обязательной службы и запретивший применять к ним телесные наказания.
С воцарением на троне Екатерины II (1762— 1796) начался, по мнению авторов, третий этап в развитии системы укрепления воинской дисциплины. В это время были осуществлены значительные шаги по восстановлению петровских методов поддержания дисциплины в войсках. Уже в 1762 году для разработки новых принципов подготовки войск и укрепления дисциплины создаётся специальная комиссия.
Сформулированные ею дисциплинарные положения закрепляются в «Инструкции полковничьей пехотного полка» (1764 г.), «Инструкции конного полка полковника» (1766 г.) [20]. Эти документы были основными и обязательными для исполнения всеми должностными лицами русской армии не только в век Екатерины II, но и практически в первой половине XIX века [21], отражали официальную точку зрения на характер дисциплинарной практики войск.
Появление данных документов, положения которых не выходили за рамки общеармейских законодательных актов, свидетельствовало о популярности среди войсковых начальников того периода времени тенденции, заключавшейся в стремлении в воспитательном процессе опираться на моральные и нравственные стимулы, уважать личность подчиненного [22, с. 127]. Суть изменений, привнесенных этими документами в дисциплинарную практику войск, заклю- чается в преодолении большой зависимости от прусских методов и возвращении к национальным традициям, опирающимся на исторический опыт и менталитет русского воинства. По существу, они закрепляли в качестве основного метода дисциплины метод убеждения.
Четвертый этап развития системы укрепления воинской дисциплины связан с деятельностью императоров — сторонников прусской методики укрепления воинской дисциплины (Павел I, Александр I, Николай I).
Вступившему на престол Павлу I (1797— 1801) пришлось преодолевать недостатки в дисциплинарной практике, наметившиеся в последние годы правления Екатерины II. Во всей своей деятельности он руководствовался главной идеей об усилении царской власти в стране, что предполагало полную регламентацию и упорядочение всего государственного механизма страны.
Чтобы искоренить в армии распространившееся казнокрадство, император создал Гене-рал-аудиториат (высший военный суд), начальник которого получил независимость от военного ведомства и имел право личного доклада императору. Сторонник прусских методов укрепления воинской дисциплины Павел I начал вводить в повседневную армейскую жизнь порядки прусской армии — армии наемно-вербовочной, воспитанной шпицрутенами и “капральской палкойˮ в безусловном, подавляющем всякую индивидуальность автоматизме и линейных боевых порядках» [23, с. 174]. В войсках получили распространение вахтпарады, маршировки, телесные наказания. Офицеры, которые были с этими методами не согласны и открыто выказывали свое недовольство, немедленно изгонялись из армии.
Тем не менее надо согласиться, что определенный рационализм в павловской дисциплинарной системе был. Прав А. А. Керсновский, утверждая, что «павловская муштра… сильно подтянула блестящую, но распущенную армию, особенно же гвардию конца царствования Екатерины» [23, с. 179]. Павел увлекался многими внешними эффектами (парадами, выучкой, цветом и видом формы и т. д.), но было и много полезного, поскольку в армии восстанавливались четкая армейская дисциплина, выучка, ответственность офицеров, включая самых высших, за порученное дело.
Пришедший к власти при поддержке «антипавловской партии» Александр I (1801—1825) не изменил по сути вектора военно-преобразовательных начинаний отца. Доктрина, уклад жизни, система обучения и укрепления воинской дисциплины остались те же. Вместе с тем, по утверждению ряда исследователей, в первый период царствования Александра I в русской армии стали возрождаться традиции Екатерининской эпохи. Их носителями стали офицеры, генералы, полководцы, познавшие эффективность cуворовской воспитательной системы.
Предпринятые организационные меры при сохранении в армии лучших национальных военных традиций, а также природные свойства русского офицера и солдата привели к тому, что, по свидетельству очевидцев, моральный дух и дисциплина в русской армии в 1805— 1812 гг. сильно выросли. В годы Отечественной войны 1812 года большинство русских военачальников оказалось на высоте тех геройских задач, которые им приходилось решать.
Вместе с тем по окончании заграничного похода 1812—1815 гг. руководство страны взяло новый курс на укрепление воинской дисциплины. Богатый боевой опыт русской армии, особенно опыт Отечественной войны 1812 года, не только был забыт, но и просто игнорировался. «Память о героических событиях этой войны, — писал один из современников, — начала изглаживаться в нашей армии. Ее не напоминали ни дни празднования, ни популярные исследования, ни, наконец, те традиции и приемы обучения, жизненность которых подтверждали славные бои этой эпохи; наоборот, все в войсках напоминало времена Павла I… военные качества заменили экзерцицмейстерской ловкостью» [24, с. 116].
Ошибки в военно-дисциплинарной политике привели к тому, что начались брожения и в дворянско-офицерской среде, закончившиеся восстанием декабристов в 1825 году.
Вступивший на престол молодой император Николай I (1825—1855) принял в наследство от брата армию, находившуюся в стадии разложения. Гвардия была охвачена брожением, не замедлившим вылиться в открытый бунт. Поселенная армия роптала. Общество резко осуждало существовавшие порядки. В целях успокоения общества и армии императором были предприняты жесткие меры по установлению порядка в армии, в результате чего было подавлено восстание декабристов, жестоко наказаны его руководители и участники, проведена чистка гвардейских рядов, бунтовавшие войска были отправлены на Кавказ и на Балканы «искупить свою вину» в войне с персами.
С точки зрения способов укрепления воинской дисциплины следует отметить, что, как и в предыдущие времена, предпочтение отдавалось командно-административным методам. Прусско-павловская система продолжала существовать. Объясняя мотивы своего преклонения перед ней, Николай I говорил: «Здесь порядок, строгая безусловная законность, никакого всезнайства и противоречия, все вытекает одно из другого, никто не приказывает, прежде чем сам не научится повиноваться, никто без законного основания не становится впереди другого, все подчиняется одной определенной цели, все имеет свое назначение, потому-то мне так хорошо среди этих людей… Я смотрю на всю человеческую жизнь только как на службу, так как каждый служит» [25, с. 14].
И Павел I, и Александр I, и Николай I были сторонниками жесткой дисциплины, основанной на беспрекословном подчинении военнослужащих верховной власти и ее представителям на местах в лице командиров и начальников всех степеней, полностью исключающей самостоятельность отдельных начальников в выборе методов и форм воспитания и дисциплинирования подчиненных. Для осуществления такой политики во всех случаях за основу была взята прусская модель управления войсками.
Вместе с тем более детальное исследование военно-дисциплинарной деятельности органов военного управления позволяет утверждать, что она выходила далеко за рамки чисто прусской модели. Свои национальные особенности, специфические проблемы заставляли власть действовать, исходя из реальной ситуации. При этом карательно-административные методы укрепления воинской дисциплины дополнялись стремлением государственных и военных руководителей убедить военнослужащих выполнять свои обязанности «не за страх, а за совесть».
Со второй половины XIX века начался пятый этап совершенствования системы укрепления воинской дисциплины. Поражение в Крымской войне ускорило теоретическую и практическую работу по преобразованию армии, поддержанию в ней воинской дисциплины. В 1856—1861 гг. при императоре Александре II был ликвидирован один из столпов военнополицейского диктата — Департамент военных поселений, отменён институт кантонистов, произошло сокращение срока службы солдат с 19 до 15 лет, были отменены прежние законы об отдаче в солдаты за преступления и др.
В 1862—1874 гг. прошли милютинские военные реформы. Проведенные преобразования, принятие в 1874 году Устава о всеобщей воинской повинности [26, с. 81] способствовали из- менению социального статуса и психологии военнослужащих, всей практики воспитания, обучения, форм и методов укрепления воинской дисциплины, наведению в войсках порядка и организованности. Все это благотворно отразилось на морально-нравственном климате и состоянии дисциплины в войсках, послужило одержанию русской армией ряда военных побед. После Русско-турецкой войны 1877—1878 гг. при поддержке государственной власти и военного руководства на страницах печати стали активно разрабатываться вопросы духовно-нравственного воспитания офицеров и нижних чинов.
После убийства императора Александра II его преемник Александр III подписал 29 апреля 1881 года «Манифест о незыблемости самодержавия», который означал переход к реакционному курсу во внутренней политике. Восьмидесятые и начало девяностых годов XIX века характеризовались проведением контрреформ, воинствующим шовинизмом, усилением административного произвола. Новый царь выражал интересы наиболее консервативных кругов дворянства. В войсках прекратилось обучение солдат грамоте, стали проявляться черты плац-парадности, армия все чаще привлекалась к выполнению полицейских функций. Широкое распространение в войсках получили порочная система чинопроизводства, протекционизм. Поражение России в Русско-японской войне 1904— 1905 гг. привело тому, что в обществе усилились пацифистские настроения, недоверие к армии, особенно к ее командному составу.
Резкое ухудшение состояния воинской дисциплины в послевоенный период и в годы революционных событий стало одной из причин, которые вынудили Николая II пойти на военные преобразования, вошедшие в историю как военная реформа 1905—1912 гг. В этот период были приняты меры, направленные на прекращение брожения в армии, улучшение дисциплины и управляемости войск. В последующем произошли изменения в системе обучения и воспитания офицеров и нижних чинов, были изданы новые воинские уставы, осуществлен переход на смешанный способ комплектования, впервые была введена единая система допризывной подготовки молодежи к службе в армии. 7 марта 1907 года вышел указ о сокращении сроков действительной службы до 3 лет в пехоте и артиллерии и до 4 лет в остальных войсках. Важным фактором укрепления воинской дисциплины в этот период стало увеличение ассигнований на материальные и социальные нужды военнослужащих [27]. Принятые в 1905—1914 гг.
меры способствовали наведению порядка и организованности в войсках накануне Первой мировой войны.
Таким образом, за более чем 200-летний период функционирования русской регулярной армии в ней сложилась определенная система укрепления воинской дисциплины. Начало ей было положено в петровский период развития Российского государства. В это время были заложены базовые элементы системы ( теория воинской дисциплины, идеология укрепления воинской дисциплины, военно-дисциплинарное законодательство, объекты и субъекты дисциплинарного воздействия, основные направления укрепления воинской дисциплины ), значение которых не менялось на протяжении всего исследуемого периода.
Вместе с тем под влиянием объективных и субъективных факторов развития Российского государства в каждом элементе системы происходили подвижки, постепенно менявшие их содержательную сторону. Усиление или ослабление карательных мер в отношении нарушителей воинской дисциплины во многом происходило в зависимости от личных взглядов императоров в разные периоды политического развития страны. Они определяли вектор развития всей работы государственных и военных органов по укреплению воинской дисциплины в русской армии в исследуемый период.
К концу этой многолетней деятельности (1914 г.) в русской армии сложилась оптимальная военно-дисциплинарная система как результат всей предшествовавшей теоретической и практической работы государственных и военных деятелей. Система имела свою отечественную специфику и опиралась на менталитет, национальные и религиозные особенности российского населения. Представления о сути воинской дисциплины, традиции общественной жизни и воинской службы, позиции высшего государственного и военного руководства, взгляды офицерского корпуса определили методы поддержания дисциплины армии , которые на практике существовали весь исследуемый период: дисциплина «страха», дисциплина «надежды», «механическая» дисциплина, «сознательная» дисциплина.
-
1. Ксенофонт. Отступление десяти тысяч. СПб., 1837. (Сер. Военная библиотека).
-
2. Цит. по: Российский военный сборник. М. : ВУ, 1999. Вып. 13.
-
3. Краткое изложение военного дела // Вестн. древней истории. М., 1940. № 1. Кн. 3.
-
4. Цит. по: Барабанщиков А. В., Иванов В. Н. История отечественной и зарубежной педагогики : в 3 ч. Голицыно, 1995. Ч. 1.
-
5. ПСЗ РИ (1). Т. 4, № 1910; Сб. военно-исторических материалов. СПб., 1892. Вып. 1. С. II.
-
6. См.: Волков Е. Первый морской устав русского флота // Военно-исторический журн. 1968. № 5. С. 113—116.
-
7. См.: Свечин А. А. Эволюция военного искусства. М. ; Л., 1927. Т. 1. С. 281—283; Баггер Х. Реформы Петра Великого. М., 1985. С. 69.
-
8. Домострой. СПб. : Наука, 1994. (Сер. Литературные памятники).
-
9. Хатов А. И. О воинской дисциплине. 1819.
-
10. Цит. по: Верховский А. И. Очерк по истории военного искусства в России XVIII и XIX вв. М., 1921.
-
11. См.: Арзамаскин Ю. Н., Бублик Л. А., Петров В. Д. Воинская дисциплина в вооруженных силах России (XVIII—XX вв.). М. : ВУ, 2000.
-
12. См.: Бочков А. Ф. Деятельность государственных и военных органов по укреплению дисциплины в русской армии (конец XVII — первая четверть XVIII в.) : дис.... канд. ист. наук. М., 2008.
-
13. См.: Ключевский В. О. Сочинения. М., 1958. Т. 4.
-
14. Герцен А. И. Собрание сочинений : в 30 т. М., 1956. Т. 7.
-
15. Байов А. Курс истории русского военного искусства. СПб., 1909. Вып. III.
-
16. См.: Ключевский В. О. Сочинения : в 9 т. М., 1990. Т. 4.
-
17. См.: Алексеев Ю. А., Басик И. И., Овчинников В. Д. На пути к регулярной армии России. Армия и флот в эпоху дворцовых переворотов. СПб. : Искусство России, 2003.
-
18. Российский военный сборник. Вып. 18.
-
19. Архенгольц И. В. История Семилетней войны : пер. с нем. Киев, 1901.
-
20. См.: Инструкция полковничья пехотному полку (1764 г.). СПб., 1826.
-
21. Последний их выпуск датирован 1826 г. (см.: Столетие Военного министерства. Т. 4. Ч. 1. Кн. 2. Отд. 3. С. 69).
-
22. Рогулин Н. Г. «Полковое учреждение» А. В. Суворова и пехотные инструкции екатерининского времени. СПб., 2005.
-
23. Керсновский А. А. История русской армии : в 4 т. М., 1992. Т. 1.
-
24. История русской армии и флота : в 15 т. / под ред. А. С. Гришинского, В. П. Никольского, И. Л. Кладо. М., 1911—1913. Т. 5.
-
25. Цит. по: Пресняков А. Е. Апогей самодержавия Николая I. Л. : Брокгауз-Ефрон, 1925.
-
26. См.: Дневники Д. А. Милютина : в 4 т. М., 1947— 1950. Т. 1.
-
27. См.: Отчет по делопроизводству Госсовета за сессию 1904—1905 гг. СПб., 1906. С. 23—40.
Список литературы Российские самодержцы и их роль в укреплении дисциплины в русской армии в XVIII - начале XX века
- Ксенофонт. Отступление десяти тысяч. СПб., 1837. (Сер. Военная библиотека).
- Российский военный сборник. М.: ВУ, 1999. Вып. 13.
- Краткое изложение военного дела//Вестн. древней истории. М., 1940. № 1. Кн. 3.
- Барабанщиков А. В., Иванов В. Н. История отечественной и зарубежной педагогики: в 3 ч. Голицыно, 1995. Ч. 1.
- ПСЗ РИ (1). Т. 4, № 1910; Сб. военно-исторических материалов. СПб., 1892. Вып. 1. С. II.
- Волков Е Первый морской устав русского флота//Военно-исторический журн. 1968. № 5. С. 113-116.
- Свечин А. А. Эволюция военного искусства. М.; Л., 1927. Т. 1. С. 281-283; Баггер Х. Реформы Петра Великого. М., 1985. С. 69.
- Домострой. СПб.: Наука, 1994. (Сер. Литературные памятники).
- Хатов А. И. О воинской дисциплине. 1819.
- Верховский А. И. Очерк по истории военного искусства в России XVIII и XIX вв. М., 1921.
- Арзамаскин Ю. Н., Бублик Л. А., Петров В. Д. Воинская дисциплина в вооруженных силах России (XVIII-XX вв.). М.: ВУ, 2000.
- Бочков А. Ф. Деятельность государственных и военных органов по укреплению дисциплины в русской армии (конец XVII -первая четверть XVIII в.): дис.. канд. ист. наук. М., 2008.
- Ключевский В. О. Сочинения. М., 1958. Т. 4.
- Герцен А. И. Собрание сочинений: в 30 т. М., 1956. Т. 7.
- Байов А. Курс истории русского военного искусства. СПб., 1909. Вып. III.
- Ключевский В. О. Сочинения: в 9 т. М., 1990. Т. 4.
- Алексеев Ю. А., Басик И. И., Овчинников В. Д. На пути к регулярной армии России. Армия и флот в эпоху дворцовых переворотов. СПб.: Искусство России, 2003.
- Российский военный сборник. Вып. 18.
- Архенгольц И. В. История Семилетней войны: пер. с нем. Киев, 1901.
- Инструкция полковничья пехотному полку (1764 г.). СПб., 1826
- Последний их выпуск датирован 1826 г. (см.: Столетие Военного министерства. Т. 4. Ч. 1. Кн. 2. Отд. 3. С. 69).
- Рогулин Н. Г. «Полковое учреждение» А. В. Суворова и пехотные инструкции екатерининского времени. СПб., 2005.
- Керсновский А. А. История русской армии: в 4 т. М., 1992. Т. 1.
- История русской армии и флота: в 15 т./под ред. А. С. Гришинского, В. П. Никольского, И. Л. Кладо. М., 1911-1913. Т. 5.
- Пресняков А. Е. Апогей самодержавия Николая I. Л.: Брокгауз-Ефрон, 1925.
- Дневники Д. А. Милютина: в 4 т. М., 1947-1950. Т. 1
- Отчет по делопроизводству Госсовета за сессию 1904-1905 гг. СПб., 1906. С. 23-40