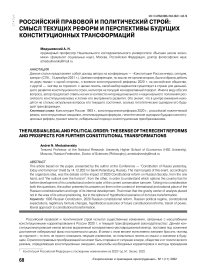Российский правовой и политический строй: смысл текущих реформ и перспективы будущих конституционных трансформаций
Автор: Медушевский А. Н.
Журнал: Теоретическая и прикладная юриспруденция.
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 (11), 2022 года.
Бесплатный доступ
Данная статья представляет собой доклад автора на конференции - «Конституция России вчера, сегодня, завтра» (СПб., 14 декабря 2021 г.). Целями конференции, по мысли ее организаторов, были избраны дебаты по двум темам: с одной стороны, о влиянии конституционной реформы 2020 г. на российское общество, с другой - «взгляд за горизонт» с целью понять, какой выбор вариантов существует в стране для дальнейшего развития конституционного строя, несмотря на текущий консервативный поворот. Имея в виду оба эти вопроса, автор предлагает ответы на них в контексте интернационального и национального положения российского конституционализма и логики его внутреннего развития. Это значит, что в центре внимания находятся не столько актуальные вопросы его текущего состояния, сколько гипотетические сценарии его будущей трансформации.
Конституция России 1993 г, конституционная реформа 2020 г, российский политический режим, конституционные ожидания, легитимирующая формула, гипотетические сценарии будущих конституционных реформ, транзит власти, либеральный подход к конституционным преобразованиям
Короткий адрес: https://sciup.org/14123716
IDR: 14123716
Текст научной статьи Российский правовой и политический строй: смысл текущих реформ и перспективы будущих конституционных трансформаций
Российский правовой и политический строй испытал существенные изменения, связанные с масштабными конституционными корректировками в России 2020 г. и текущей трансформацией законодательства1. Данная конституционная ревизия имела вполне выраженный консервативно-реставрационный вектор, поставив под сомнение достижения либеральной фазы постсоветского цикла. В связи с этим вполне естественно желание бросить «взгляд за горизонт», то есть не просто описывать текущие изменения, но попытаться понять их смысл и значение в будущем. Стратегия правовых преобразований не может быть оторвана от ситуации в мире, обществе и от политического режима, определяющих конституционные ожидания, масштабы необходимых корректировок и методы проведения реформ. Вопросы, встающие в связи с этим: внешние и внутренние факторы правовой трансформации, определившие принятие обновленной легитимирующей формулы власти-2020; способность политического режима сохранить стабильность, оставаясь в правовом поле; гипотетический кризис и вариативные сценарии выхода из него; определение правовых возможностей трансформации конституционного строя и политических технологий ее осуществления; осмысление либерального подхода к конституционным реформам. Зафиксировать эти вопросы и предложить ориентировочные направления решений — задача данной статьи.
СТАТ Ь И
1. Внешние и внутренние факторы правовой трансформации: смысл легитимирующей формулы 2020 года
Определяющим трендом мирового правового развития с окончанием холодной войны и распада СССР стала теория и практика глобального конституционализма. Его суть состоит в конвергенции двух традиционных видов права — международного и национального (конституционного) — в рамках единого глобального или транснационального права2. Результатом, согласно данному подходу, должно стать создание норм и институтов наднационального правового регулирования с параллельным уменьшением значения национальных конституций, положения которых будут всё более интенсивно корректироваться с позиций международных договоров и установок транснациональных судов.
Этому тренду к интеграции, господствовавшему в интеллектуальном мейнстриме конца ХХ — начала ХХI вв., в последнее десятилетие брошен вызов противоположного свойства — к фрагментации мирового правового порядка. На пересечении этих двух тенденций формируется повестка адаптации конституций к мировым изменениям: принятие их универсального значения (интеграционный проект ЕС); их полное отрицание с выдвижением альтернативного подхода (Китай); догоняющая правовая модернизация — стандарты признаются, но их реализация откладывается из-за фактической невозможности сделать это (ЮАР); гибридная модель ассимиляции этих стандартов в традиционных культурах (Япония); особый подход так называемых ревизионистских государств Восточной Европы и постсоветского пространства. Либеральная теория глобального конституционализма подвергается все более интенсивной критике с позиций критической теории (постлиберальные ценности), региональной специфики (обособление региональных правовых режимов) и идентичности (правый популизм) как инструментов защиты национальных интересов («возвращение суверенитета» национальным правительствам). Общим выражением сбоев системы транснационального правового регулирования и управления становится конституционный популизм3.
Россия в этой сравнительной перспективе занимает промежуточную позицию, которую можно определить как «защитный конституционализм»: закрепленные конституционные принципы соответствуют международным стандартам, но их реализация постоянно была далека от их аутентичного значения4, тяготея к государственно-центричному пониманию правовых гарантий, начиная с конституционного кризиса 1993 г., остающегося предметом противоречивых оценок внутри страны и белым пятном в диалоге России и Запада5. Принятие идеи приоритетности ратифицированных международных актов о правах человека (ч. 4 ст. 15) сохраняется, но сочетается с корректировкой масштаба их действия на национальном уровне — решения межгосударственных органов (в частности, транснациональных судов), принятые на основе ратифицированных Россией международных договоров, не подлежат исполнению в истолковании, противоречащем Конституции и основам публичного правопорядка (в контексте реформированных ст. 79 и ст. 125 Конституции РФ). Этот тренд выражен официальной формулой о «пределах уступчивости», в рамках которой акцентируется значение идентичности, солидаризма, единства системы публичной власти, а диалог судов интерпретируется как мост с двусторонним движением (что предполагает известные уступки национальному законодателю)6.
Уровень общественных ожиданий конституционных реформ — важный внутренний фактор их объема и направленности. Социологические опросы, проводившиеся с 2000-х гг. (разными службами и на основе разных методик), на протяжении двух десятилетий фиксировали устойчивую апатию общества в отношении конституционной реформы. В основе этой апатии лежит ряд факторов — стремление к стабильности, утраченной с распадом СССР, слабость гражданского общества, его растущая атомизация, а также низкий уровень правового сознания и непонимание значения конституционных изменений — как формальных, так и неформальных тенденций развития политического режима7.
СТАТ Ь И
Радикального изменения этих настроений пассивности не произошло и в период подъема оппозиционных настроений в 2011–2012 гг.: повестка конституционных реформ не стала полноценной темой альтернативных программ общественного переустройства. Конституционный мониторинг показал существенную деформацию реализации основных конституционных принципов — правового государства, федерализма, разделения властей, гарантий прав и свобод личности8. Однако оппозиции не удалось возглавить движение перемен, сформулировать их конституционную программу и заручиться поддержкой даже части общества в ее проведении. «Запрос на конституционную реформу» в российском обществе фиксируется социологическими службами лишь в 2018–2019 гг., но его социальное содержание остается неопределенным. В структуре этого запроса собственно конституционные вопросы имеют поддержку очень незначительной части общества в противоположность правовым ожиданиям социальных и экономических реформ, которые разделяет подавляющая часть общества9.
Эта ситуация в общественных настроениях была использована властью, которая перехватила у оппозиции обсуждение темы конституционных реформ, переведя их в удобное для себя русло. В результате тщательно продуманной, стремительной и эффективной (с точки зрения политтехнологий) операции была реализована конституционная реформа 2020 г. Суть технологий определялась комбинацией факторов: разработка концепции реформы в закрытом режиме, быстрота ее проведения (без консультаций с обществом), расстановка приоритетов в публичной повестке (выдвижение более популярных экономических поправок при умалчивании политических); разделенное и селективное обсуждение поправок в обществе с принятием главной из них (о продлении полномочий действующего лидера) на самом последнем этапе — перед формальным принятием. Балансируя между соблюдением норм изменения Конституции и их нарушением, как с содержательной, так и с процедурной точки зрения (ставящей под сомнение ч. 1 ст. 16), власти удалось получить главное — принять обновленную легитимирующую формулу, определяющую воспроизводство режима у власти. Это позволило снять угрозу конституционного кризиса в краткосрочной перспективе, но оставило нерешенной проблему транзита власти. Дезориентация общества и оппозиции после реформы не дает оснований надеяться на быстрое восстановление полноценного общественного запроса на конституционную реформу.
Формула легитимности , введенная поправками 2020 г. и конституционно закрепленная в ходе их продвижения, как было показано нами ранее в специальном исследовании, — внутренне противоречива: она комбинирует конституционно-демократическую основу политического строя с внеправовыми (культурными) параметрами, включающими историю, нацию, солидарность, утверждая приоритет публичной власти над обществом, символический (метаконституционный) статус главы государства и редукцию цели правовой трансформации к средствам ее достижения. Баланс преимуществ и недостатков данного решения для политической системы не выглядит однозначно: к преимуществам можно отнести воспроизводство легитимности как гарантию относительной стабильности режима в краткосрочной перспективе; преодоление растущего противоречия между его конституционной формой и реальным содержанием путем отражения последнего в нормах позитивного права; воспроизводство мандата действующего лидера в условиях роста международного соперничества и внутренних проблем. К недостаткам следует отнести внутренне противоречивый характер легитимирующей формулы, составленной из разных легитимирующих принципов (конституционных и метаконституционных); угроза стагнации в силу гиперцентрализации государственной власти, остающейся единственным арбитром в разрешении социальных конфликтов; отсутствие (за пределами формальных конституционных процедур) понятных и легитимных механизмов передачи власти, проблема трансфера которой была отложена во времени, но неизбежно возникнет в будущем, провоцируя угрозу раскола элит10.
Самым точным определением сложившегося политического режима, на наш взгляд, является понятие конституционного авторитаризма (конституционной диктатуры) — системы правления, при которой на основе Конституции при согласии общества (подтвержденном на эрзац-плебисците) и при единодушном одобрении всех ветвей власти происходит установление практически неограниченной власти института главы государства, персонифицированного в фигуре действующего лидера. Все эти факторы закладывают предпосылки и направления дальнейших метаморфоз российского конституционализма, политического режима и параметров легитимности власти.
2. Степень устойчивости российского политического режима: между стагнацией и кризисом в конституционном развитии
Другим измерением потенциала конституционных реформ является устойчивость политического режима с конституционной и фактической точек зрения.
В специальной дискуссии по этому вопросу нами предложена формула оценки стабильности/нестабильности политического режима. Всякий режим стабилен, если отвечает пяти критериям: 1) поддерживает доминирующие позиции в мире путем эффективного международного баланса — союзов, не требующих перерасхода ресурсов (экономических, военных, политических) или ведущих к внутренней дестабилизации, так называемому имперскому перегреву; 2) его легитимирующая формула позволяет поддерживать социальную стабильность и готовность общества к социальной мобилизации в случае кризиса (не важно при этом, основана данная поддержка на логических или вполне иррациональных критериях); 3) гомогенность элиты сохраняется на высоком уровне, что может быть достигнуто с помощью самых различных методов — от ощущения «общей миссии» и «харизмы», принятых правовых и этических рамок до вполне макиавеллистических приемов — страха, коррупции, круговой поруки или селективных репрессий внутри правящего класса (как правило, в ход идут все методы); 4) устойчивость лидерства, включающая понятные (для общества и элиты) процедуры прихода к власти, ее удержания и обеспечения преемственности — фактор, способный стать определяющим в условиях любого системного сбоя; 5) присутствие у лидера инстинкта власти и решительности, определяющейся тем, насколько далеко он способен зайти для ее сохранения11. Проанализировав с использованием этих критериев современное положение российского режима, мы пришли к выводу о его стабильности в текущей перспективе —выводу, который был поддержан большинством участников дискуссии в «Либеральной миссии»12. Угрозы режиму имеют поэтому не столько имманентный (внутренний) характер, сколько переменный (внешний), связанный с возможностью глобального экономического кризиса, изменения баланса сил на международной арене или ошибочными действиями власти.
СТАТ Ь И
Российский политический режим вполне устойчив в текущей перспективе и соответствует основным компонентам выведенной нами формулы стабильности, а его изменения, в том числе связанные с транзитом власти, едва ли способны в краткосрочной перспективе обеспечить переход к функционирующей демократии западного типа. Однако эта стабильность, успешно решая текущие задачи власти, имеет выраженный механистический характер (основана на информационной монополии, прямом государственном контроле и селективных репрессиях) и, следовательно, не может быть воспроизводима в длительной перспективе. Включая фактор времени в прогнозировании эволюции российского политического режима, мы приходим к выводу: режим стабилен в краткосрочной перспективе, менее стабилен в среднесрочной и, наконец, совсем не стабилен в долгосрочной перспективе. Исходя из этого, прогнозирование гипотетического конституционного кризиса (как следствия кризиса режима) должно учитывать условия (исходную стабильность), масштаб изменений (и их очередность), а также вектор текущих изменений легитимирующей формулы власти.
В сравнительной перспективе аналогичных процессов в других странах возможна реконструкция трех гипотетических вариантов того, как изменения режима влияют на конституционную повестку, которые, конечно, будут корректироваться с учетом внешнеполитической ситуации, остроты внутренних противоречий, степени осознания элитой своей ответственности и, наконец, фактора «случайности».
1) Продолжение правовой и институциональной стагнации — воспроизводство в новых формах системы мнимого конституционализма или конституционной диктатуры с перспективой ее перехода в неконституционные (откровенно репрессивные) формы, вовсе не связанные правовыми ограничениями, — возможность продолжительного действия данного тренда подтверждается провалом демократического транзита в целой группе государств.
2) Спонтанное крушение системы под влиянием внутренних и/или внешних факторов. Это крайне негативный вариант, связанный с серьезной дестабилизацией правовой системы, возможным торжеством популизма, скорее всего — левого, и вероятным воспроизводством конституционного авторитаризма в других формах, в том числе — парламентской, которая сама по себе не гарантирует либерального вектора13.
3) Внутреннее конституционное реформирование системы по ее инициативе — в силу осознаваемого роста отчуждения общества и власти, ставящего под угрозу сохранение контроля действующей элитой. Этот последний, теоретически возможный вариант представляется наименее социально затратным, но предполагает готовность к нему общества, трудную работу сознания элиты, гибкость и прагматичность ее мышления.
3. Гипотетический конституционный кризис: сценарии и перспективы преодоления
Все три варианта уже отработаны странами постсоветского ареала, и существует три стратегии конституционных преобразований: поддержание незыблемости правовой системы авторитарного типа; ее крушение (в виде цветных и обычных революций с восстановлением олигархического правления); вариант конституционной и политической модернизации «сверху». На деле, конечно, сценарии могут пересекаться, а итог кризисной трансформации определяется как степенью общественного недовольства, так и конституционными рамками, профессионализмом элиты и лидерства. Категорически отвергая первые два сценария, либеральная общественность должна стремиться к реализации третьего, имея в виду максимальную постановку его под социальный контроль.
СТАТ Ь И
Задача состоит в создании принципиально другого типа стабильности — динамической, основанной на установлении прочных равных правил для взаимодействия конкурирующих политических сил, объединенных единством национальных устремлений. Этот тип стабильности означает консенсус общества и власти, правовое государство и функционирующую конкурентную демократию, выраженные в легитимирующей формуле власти и способах ее практического воплощения в государственном управлении. Способность общества и элиты решить эту задачу путем своевременных конституционных преобразований с учетом внешних и внутренних вызовов глобализации — исторический тест на жизнеспособность существующего российского политического режима.
Следует различать понятия конституционного кризиса и кризиса политического режима. Первый определяется тремя условиями: конституция утрачивает легитимность в силу несоответствия реальности (ожиданий общества); возникает непреодолимый конфликт ветвей власти по интерпретации одних и тех же конституционных норм; разрешение конфликта становится невозможным с позиций установленных конституционных норм. Кризис политического режима, напротив, связан с решением вопросов власти — ее приобретения, сохранения и удержания — в смысле их принятия обществом и элитами. Связь между двумя типами кризисов — не прямая. Они соприкасаются только в решении проблемы легитимности власти. Поэтому неправы те, кто считают, что в России существует конституционный кризис (стагнация не есть кризис; прямая угроза его возникновения, вероятно, снята поправками 2020 г. как минимум до 2024 г.), и сводят его разрешение к изменению режима: последний может трансформироваться как в конституционном поле, так и вне и помимо него.
Кризис политического режима, согласно нашему определению, это исчерпание жизнеспособности легитимирующей формулы, определяющей место режима в мире и внутренней политике, — непреодолимый разрыв между декларируемыми целями и средствами их достижения, проявлениями которого становятся отказ общества от лояльности к власти и утрата элитой контроля над властными (прежде всего, силовыми) ресурсами. Разрешение кризиса, исходя из этого, состоит в принятии режимом новой (или радикально реформированной) легитимирующей формулы, способной восстановить лояльность общества и контроль элит. Эта концепция, связывающая судьбу политического режима с жизнеспособностью его легитимирующей формулы, создает социологически верифицируемый критерий оценки стабильности/нестабильности политического режима, позволяя проследить логику его усиления или упадка. Поэтому кризис — всегда временное явление, он не может длиться постоянно, после него обязательно наступает стабилизация. Она может быть достигнута снятием противоречий, причем противоположными средствами — как уничтожением самого режима, так и его оппонентов. В случае гипотетического кризиса российского политического режима его легитимирующая формула окажется неспособна дать ответ на дестабилизацию всех или части критериев, описываемых формулой стабильности. В соответствии с этим возможен полный или частичный кризис режима с соответствующей реакцией общества и элит и разными формами конституционных изменений.
Как показывает сравнительная история кризисов политических режимов, они могут развиваться в трех принципиально различных формах — спонтанного, управляемого или комбинированного выхода из ситуации, которым схематично соответствуют три варианта конституционной трансформации14. Спонтанный кризис — тот, развитие которого происходит вне и помимо существующих конституционных норм с опорой преимущественно на силовой компонент противостоящих акторов политического процесса. В правовом отношении это переход от одной политической системы к другой с полным разрывом правовой преемственности: старая конституция отвергается и принимается новая, причем без опоры на положения старой конституции о ее изменении — в результате революции или государственного переворота. Это наиболее деструктивная форма развития кризиса, которая была продемонстрирована в 1917 и 1991 гг. и в обоих случаях привела к распаду государства — Российской империи и Советского Союза. На постсоветском пространстве данная форма разрешения кризиса вела к фактическому распаду государств, экспериментировавших с цветными революциями (Украина, Грузия, Молдавия). Результатом такого развития кризиса становятся огромные издержки для общества, а в конечном счете не исключено восстановление авторитарной модели власти в той или иной форме. Кроме того, этот вариант развития кризиса делает практически неизбежным вмешательство в него внешних игроков, оправдываемое поиском собственной безопасности в меняющемся балансе сил.
Управляемый выход из кризиса — его введение в определенные правовые рамки либо на основе действующей конституции, либо принятой сторонами конфликта системы договоренностей. Это так называемый договорный переход к демократии, когда основные политические силы действуют в существующих конституционных рамках, достигают согласия по принципиальным острым вопросам, договариваясь по базовым положениям будущей правовой системы. Этот вариант был намечен в позднем СССР в эпоху перестройки (но не состоялся), реализовался в некоторых странах Южной и Восточной Европы, в Южной Африке, ряде стран Латинской Америки. Сделать кризис управляемым — значит ввести его в определенное предсказуемое русло, добившись соблюдения минимальных правовых и политических гарантий. Переход власти осуществляется в соответствии (более или менее строгом) с положениями и процедурными нормами действующей конституции о ее изменении во имя поддержания правовой преемственности и легитимности нового политического режима (согласованная конституционная реформа, как это было в Испании или отчасти в некоторых странах Восточной Европы, избравших путь бархатных революций).
СТАТ Ь И
Комбинированный вариант — фактический переворот, который постепенно обретает управляемый характер в случае достижения согласия основных политических акторов, если не по всем вопросам, то по главному вопросу направления транзита власти. Фактический разрыв правовой преемственности в результате переворота камуфлируется как поддержание этой преемственности, например, путем корректировки самих процедурных параметров пересмотра, зафиксированных действующей конституцией, согласия сторон на новую интерпретацию конституционных положений старого режима либо их новое истолкование институтами конституционного правосудия. Примерами выступают конституционные перевороты, представленные как реформа, например, при переходе от Четвертой республики к Пятой во Франции или в ходе принятия конституции Японии, Греции, в государствах Балтии (где изменение режима было связано с восстановлением действия предшествующих конституций).
Каждый из этих вариантов имеет свои недостатки и преимущества: первый вариант подрывает правовую легитимность нового режима, но дает ему возможность сконструировать также принципиально новую легитимирующую формулу; второй вариант позволяет новому режиму сохранить прежнюю легитимирующую основу, но связывает его с этой основой, иногда мешая двигаться вперед; третий вариант позволяет решить обе проблемы (сочетание разрыва и воспроизводства правовой преемственности), но создает проблему лакуны между старым и новым правовыми порядками, требующую изменения самих критериев интерпретации правовых норм. Исторически в России всегда реализовывался первый вариант — конституционной революции (в частности, в 1993 г.). Но в рамках либерального подхода более рациональным представляется второй вариант выхода из кризиса, а при известных обстоятельствах (с учетом ситуации в обществе) также третий.
4. Конституционная революция или реформа: дилемма Учредительного собрания и координируемой конституционной трансформации
Рассмотрим ситуацию полноценного конституционного кризиса (с разрывом правовой преемственности или без него) и возможные способы его преодоления. Какой вариант выхода из конституционного кризиса может быть востребован обществом, зависит от ряда факторов: масштаба кризиса (причем именно конституционного, а не политического); содержания предполагаемых изменений (требуют они полного пересмотра или нет); отношения к действующей Конституции (не только к ее содержанию, но и нормам о пересмотре Конституции); расстановки политических сил и действительных целей всех инициаторов изменений.
Вариант Учредительного собрания (Конституционного собрания) для принятия новой Конституции в России эмоционально вполне понятен с учетом критики действующей Конституции за неспособность предотвратить растущую авторитарную трансформацию власти. С идеей Учредительного собрания (первый и единственный вариант которого в России был уничтожен большевиками в 1918 г.) связаны представления о возможности пересмотра российской политической традиции — в сторону отказа от советской легитимности и преступлений советской диктатуры. Деформации современного режима также связываются некоторыми с отказом от идеи принятия Конституции на Учредительном собрании после крушения коммунизма (когда она была подменена идеей Конституционного совещания при президенте), что не позволило выйти на консолидированное принятие основного закона на базе широкого социального консенсуса. Все это верно и, повторяем, понятно эмоционально.
Но идея Учредительного собрания (Конституционного собрания) не представляется очевидным приоритетом текущей политики — ни с юридической, ни с политической точки зрения. Во-первых, ее реализация требует наличия в обществе так называемого конституционного момента — пика общественных ожиданий конституционного преобразования, которого нет; во-вторых, запуск данного механизма порождает волну популистских ожиданий и, следовательно, угрозу непрофессиональных решений, принятых в угоду текущим эмоциональным настроениям; в-третьих, закон о Конституционном собрании не принят, а имеющиеся проекты (разработанные в основном в 90-е гг. ХХ в.) демонстрируют острый конфликт ветвей власти и политических партий по вопросу о том, каковы могли бы быть его положения; в-четвертых, при существующих ценностных приоритетах возникает очевидная угроза выхода ситуации из-под контроля и утраты либеральных норм действующего Основного закона (неслучайно за данный вариант выступают крайние правые и левые силы политического спектра); в-пятых, подготовка и проведение такого масштабного социального эксперимента — очень трудное дело, не гарантированное от срывов и ошибок (совершенных, например, Временным правительством в 1917 г.), которые могут быть использованы экстремистами; в-шестых, нет никаких признаков усиления поддержки либеральных сил в обществе; наконец, в-седьмых, отсутствует, даже теоретически, согласованное решение вопроса о прерогативах данного института и их границах, исключающих узурпацию власти.
СТАТ Ь И
Более приемлемым представляется стратегия большинства современных демократических государств: они сдержанно относятся к созданию всесильных и автономных институтов учредительной власти, предпочитая им временное наделение парламентов ограниченными конституирующими функциями для проведения конституционных реформ (именно такова практика успешных переходных процессов Южной и Восточной Европы конца ХХ в.). Опыт показывает, что лучшими оказывались те конституции (и поправки), которые разрабатывались в закрытом режиме (как, например, Основной закон ФРГ, действующая конституция Японии, Испании, Бразилии, Пятой Французской республики) — с привлечением экспертов-профессионалов и последующим утверждением готового проекта на референдуме, а не были результатом созыва Конституанты и публичного поиска компромиссов политических сил.
В сравнительной перспективе вариантами выхода из масштабного конституционного кризиса могли бы стать: 1) заключение связывающих соглашений политических партий о содержании переходного периода, его целях и содержании ключевых конституционных положений (вариант круглого стола правящей партии и оппозиции); 2) принятие специального переходного закона и изменения положений законодательства о парламентских выборах с целью наделения парламента нового созыва ограниченными конституирующими функциями (как это было сделано в Испании принятием переходного Закона о политической реформе); 3) обсуждение перспективы многоэтапной конституционной реформы — принятия временной (инструментальной) и впоследствии постоянной Конституции (как это было сделано в ЮАР или Польше — «малая» конституция, а затем постоянная). Это позволило бы сохранить демократическую легитимность Конституции 1993 г. с корректировкой ее положений, не отвечающих демократическим стандартам, а в дальнейшем, в случае необходимости, выйти на обсуждение новой Конституции.
В свете представленных аргументов ясно, что в перспективе следует стремиться избежать обеих крайностей — конституционной стагнации и полномасштабной конституционной революции.
5. Масштабы и инструменты трансформации конституционного строя с позиций Конституции 1993 г.
Масштабы конституционного реформирования определяются в Конституции России механизмами, заложенными в главе 9.
Радикальный вариант реформы (или пересмотр Конституции) при изменении глав 1, 2 и 9 предполагает созыв Конституанты — Конституционного собрания (ст. 135). Этот вариант требует выраженной консолидированной позиции двух палат Парламента (поддержки 3/5 голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной думы), достижимой только в условиях широкого консенсуса в отношении конституционного кризиса и необходимости выхода из него. Он теоретически оправдан в условиях фактической конституционной революции — на пике конституционных ожиданий общества, при наличии выраженного демократического консенсуса и существовании парламентских сил, способных возглавить и поэтапно проводить данную инициативу. В противном случае, как показывает сравнительный опыт, результатом станет конституционный кризис с непредсказуемыми последствиями — дестабилизацией государственного строя и/или приходом к власти откровенно популистских сил.
Другой вариант — внесение отдельных конституционных поправок в главы 3–8 (в соответствии со ст. 136) — выглядит менее радикальным, поскольку не ставит под вопрос конституционную систему в целом (теоретически одни поправки могут быть отменены другими). Но этот вариант также трудно реализуем, особенно с учетом фактора федерализма. Этот вариант изменения Конституции предполагает наличие у реформаторов квалифицированного (или близкого к нему) большинства в палатах Федерального Собрания, а также наличие серьезной поддержки в преобладающей части региональных законодательных собраний, требуемой для принятия федерального конституционного закона (ФКЗ) (для этого необходима поддержка 3/4 голосов членов Совета Федерации, 2/3 депутатов Государственной думы и одобрение 2/3 субъектов РФ на основании ст. 136 и ст. 108 Конституции и закона о поправках к ней).
Третий вариант возникает тогда, когда предлагаемые поправки к главам 3–8 выходят за их пределы и ведут к фактической трансформации основ конституционного строя. Тогда теоретически это возвращает нас к первой ситуации. Данный вариант был реализован на практике конституционной реформой 2020 г.: при формальном соответствии с фундаментальными нормами Конституции (гл. 1 и 2), а также нормами о ее пересмотре (гл. 9) реформа включила поправки более чем 40 статей (в преамбулу и гл. 3–8), затрагивающие смысл первых двух глав Конституции и возможность реализации зафиксированных в них прав. В этом случае вставал вопрос о проведении повторного всенародного голосования, как минимум аналогичного тому, который имел место 12 декабря 1993 г. Но этот вопрос был, как известно, снят проведением эрзац-плебисцита в виде непредусмотренного Конституцией «всероссийского голосования» по поправкам.
В этих рамках обсуждаются перспективы конституционной модернизации. Одним из вариантов корректировки конституционного строя могла бы стать отмена поправок, внесенных в Конституцию реформой 2020 г. Но в этом случае вновь возникает ряд тактических вопросов: следует отменить их в полном объеме или выборочно (с учетом того, что некоторые из них позитивно воспринимаются большинством населения), единовременно или с разделением по времени (что открывает перспективы обсуждения каждой новации в соотношении с предложенной заменой); следует ли при этом обращаться к повторному всенародному голосованию (что требует предсказуемой широкой социальной поддержки данных инициатив) или обойтись без него в рамках ординарной процедуры принятия поправок? Теоретически не исключена направленная трансформация ряда фундаментальных норм Конституции без изменения ее текста путем разъяснения их нового смысла Конституционным судом — вариант, возможный в случае политического консенсуса ветвей власти по вопросу измененной трактовки существующих норм.
СТАТ Ь И
Итак, помимо неправовых вариантов (конституционного переворота) есть три правовых варианта: полный пересмотр Конституции (с запуском процедуры Конституционного собрания); ревизия путем поправок или путем контрпоправок (это также поправки по отмене уже принятых поправок как неконституционных, хотя и ставших уже конституционными нормами); пересмотр смысла конституционных норм через их судебное толкование. Выбор из данных вариантов конституционной трансформации определяется, на наш взгляд, не столько теоретическими соображениями, сколько степенью социальной поддержки реформационных инициатив в обществе.
6. Технологии управляемого демократического транзита власти
Ключевой предпосылкой правового и координируемого перехода к демократии не только de jure, но и de facto является, как показывает сравнительный анализ, не столько конституционная реформа как таковая, сколько перестройка механизма власти. Наивно думать, что простая смена «конституционного дизайна» способна сделать либеральный вектор необратимым. Значительное число срывов демократического транзита связано именно с этой иллюзией. В условиях апатии гражданского общества и консерватизма элиты наиболее целесообразный вариант — постепенное движение от авторитаризма к «демократии элит», то есть введение такой системы ограниченного плюрализма, которая предполагает расширение политической конкуренции внутри правящего класса, создание четких правил игры и политико-правовых конвенций по линии соотношения правящей партии и парламентской оппозиции.
Инструментами поддержания данного контракта элит (следуя международному и, в частности, европейскому опыту переходных процессов) могли бы стать: разделение правящей партии на две (условно говоря, «консерваторов» и «прогрессистов»); введение ограниченной политической конкуренции с последующим созданием условий для перехода от имитационной многопартийности к реальной; проведение круглого стола с юридически обязывающей фиксацией договора (возможного и с привлечением внепарламентской оппозиции); поддержание достигнутых договоренностей внешним арбитром (например, Конституционным судом); в конечном счете — преодоление отчуждения между властью и обществом по линии общих целей программы преобразований. В принципе эта эволюция могла бы выглядеть как переход от режима плебисцитарного авторитаризма к современной форме смешанной президентско-парламентской (или парламентско-президентской) республики. Для этого достаточно пересмотреть легитимирующую формулу власти, закрепленную поправками 2020 г. и вернуться к аутентичному пониманию конституционных положений 1993 г. Это позволит реконструировать баланс ветвей власти по линии «государственная дума — правительство — президент» (отмена ч. 2 ст. 117) и запустить, в случае консенсуса основных акторов, процесс трансформации конституционного законодательства по другим значимым темам.
Как показывает сравнительный анализ транзитных процессов и соответствующих им конституционных поправок, здесь возможны три ситуации:
1) Глава государства идет на эти реформы в условиях нарастающего кризиса политической системы с целью заручиться поддержкой части элиты (и оппозиции) против консервативных оппонентов; это может выражаться в принятии нового конституционного законодательства или в расширении объема действия и порядка реализации политических прав и свобод, зафиксированных в действующей Конституции, — по линии снятия административных ограничений на их функционирование.
2) Действующий лидер стимулирует введение новых «правил игры» перед уходом от власти (для поддержания предсказуемости курса и сохранения личных гарантий безопасности от политического или судебного преследования); этот вариант не исключает введение конституционных поправок по значимым направлениям регулирования институтов и процедур передачи власти.
3) Новый лидер формулирует эти правила в условиях осознания непрочности поддержки со стороны элиты (с целью противопоставить одну ее часть другой). Этот вариант может стать основой запуска полномасштабной конституционной реформы. В зависимости от времени принятия решения о транзите власти политической элитой различается масштаб конституционных изменений — от минимальных (в первом случае) до более значительных (в последнем). Сам факт осознания этой дилеммы элитой и лидером позволяет готовить соответствующие реформы и кадры в недрах старого режима.
7. Либеральный подход к конституционным преобразованиям в России
Основное преимущество согласованной конституционной реформы для общества — избежание полномасштабного конституционного кризиса с риском дестабилизации политической системы; для элиты — сохранение по-
СТАТ Ь И
зиций на основе новых «правил игры» и поддержание управляемости ситуации в условиях переходного периода. Конституционные нормы о разделении властей, в результате частичной корректировки, наполняются новым содержанием и дают другой функциональный эффект. Принятие модели либерально-авторитарного консенсуса позволяет трансформировать действующую систему ограниченного плюрализма в менее конфликтную форму, осуществить конституционную трансформацию в режиме непубличного диалога — предварительно решить спорные вопросы путем внутриэлитных договоренностей до вынесения их в публичное пространство, то есть выстроить систему формальных и неформальных норм, обеспечивающих эволюционную либерализацию режима.
Конституционная реформа в России 2020 г., как продемонстрировали выступления на конференции, оценивается как консервативно-реставрационный тренд. Но выводы из этого могут быть различными — от признания его безальтернативности в текущей ситуации глобальных изменений до констатации его ограниченных содержательных и временных рамок. Это делает целесообразным перевод дискуссии в сферу гипотетических сценариев и вариативных стратегий конституционного устройства будущего. Общий смысл либерального подхода к реформам российского политического режима заключается в следующем: с одной стороны, не допустить спонтанного кризиса, ведущего к вакууму власти с последующим восстановлением авторитаризма, и с другой — обеспечить создание стабильных и понятных обществу правовых условий и правил игры в ситуации транзита власти. Именно такова была установка классического русского либерализма на рубеже XIX–XX вв., искавшего компромисс с властью по линии признания идеи ответственного (перед парламентом) правительства как условия перехода от оппозиции Его Величеству к обретению статуса оппозиции Его Величества15.
Констатируя усиление реставрационных тенденций в конституционно-правовом регулировании, а также рост инерционности и издержек существующей системы «управляемой демократии», мы обсуждаем переход к качественно новому типу государственности — полноценно функционирующему правовому государству, возможно, с «российской спецификой» (обусловленной во многом незавершенным характером российского федерализма). На этом пути предстоит реализовать именно те принципы, которые провозглашены Конституцией России 1993 г., но остались не реализованы до настоящего времени: права и свободы личности, правовое государство, конкурентные выборы, реальная многопартийность, парламентская ответственность правительства, независимость судов, сменяемость власти, предсказуемость лидерства.
В этой перспективе важное значение имеет разделение конституционно-правовых и собственно политических задач. Корректировка Конституции России (как текста), исходя из проведенного анализа, должна (по крайней мере, в текущей политической перспективе) включать не максималистские, но минималистские ориентиры: не конституционная революция, но конституционная реформа; не полный пересмотр Конституции, но ее частичная ревизия (там, где это действительно необходимо); не разрыв правовой преемственности, но ее сохранение; не Учредительное собрание, но парламент, наделенный ограниченной конституирующей властью; не спонтанная конвульсивная смена режима, но управляемый переход. В целом не принятие новой Конституции, а восстановление принципов действующей, утраченных в процессе консервативной ретрадиционализации.
Политическая составляющая конституционной трансформации, напротив, может иметь максимально широкий круг ориентиров, направленных на восстановление смысла всего блока конституционности. Эта деятельность включает следующее: разъяснительную работу в обществе, формулирование программных установок по конституционным приоритетам, издание серии «Белых книг» по отдельным вопросам конституционной реформы (федеративным, судебным, административным, местного самоуправления и т. д.); создание пакета проектов федеральных и обычных законов, а также возможного законодательства «переходного периода» с учетом различных его сценариев; подготовку дорожной карты реформ административного и судебного законодательства в наиболее значимых сферах (например, в области реализации политических прав граждан); мониторинг конституционных деформаций, сопровождаемый критическим анализом отступлений от буквы и духа Конституции, в частности поправок-2020; подготовку обобщений правоприменительной практики с рекомендациями по ее изменению. Если такая деятельность завершится созданием консолидированного рабочего проекта новой Конституции, это станет естественным продолжением деятельности, но она не должна ставить себе это главной и единственной целью.
Роль конструктивной либеральной оппозиции в критической ситуации (конституционного кризиса, транзита власти и смены лидерства) чрезвычайно важна и, на наш взгляд, состоит в следующем: представление обществу полноценного проекта конституционных реформ (а не только и не столько проекта Конституции); оппонирование консервативно-реставрационным тенденциям политической системы; продвижение либеральной повестки конституционных реформ в обществе; выстраивание диалога с той частью политической элиты, которая выступает за перемены (союз общественности и просвещенной бюрократии); подготовка пользующейся общественным доверием и профессиональной контрэлиты — «неправящей элиты» (или «правительства народного доверия»), которая со временем может стать ядром новой правящей элиты.
СТАТ Ь И
Разделение задач конституционного проектирования и политического продвижения ценностей конституционализма сделает возможной более гибкую реакцию на различные глобальные и внутренние вызовы, трудно поддающиеся прогнозированию и способные иметь противоположный характер, связанный как с усилением авторитарной составляющей политического режима, так и, напротив, с утратой им стабильности и легитимности.
Список литературы Российский правовой и политический строй: смысл текущих реформ и перспективы будущих конституционных трансформаций
- Конституция Российской Федерации с последними изменениями на 2022 год. М.: Эксмо, 2022.
- Конституционные принципы и пути их реализации: российский контекст. Аналитический доклад. М., ИППП, 2014. 75 с.
- Конституционный мониторинг: концепция, методика и итоги экспертного опроса в России в марте 2013 года. М., ИППП, 2014.
- Медушевский А. Н. Конституционная реформа — 2020 с позиций теории легитимности. Теоретическая и прикладная юриспруденция, 2020. № 4. С. 15-30.
- Медушевский А. Н. Конституция и социальный запрос на изменения в современном российском обществе. Сравнительное конституционное обозрение, 2019. № 1 (128). С. 21-41.
- Медушевский А. Н. Российская конституционная реформа в контексте правовой глобализации. Конституционный вестник. Независимый журнал по вопросам конституционализма, 2021. № 6 (24). С. 150-167.
- Международное и конституционное право: проблемы взаимовлияния. Коллективная монография. Под ред. А. А. Дорской, С. В. Бочкарёва. СПб.: Издательский дом «Алеф-Пресс», 2016.
- Общественно-политическая мысль российского либерализма середины XVIII — начала XX вв. «XII Муромцев-ские чтения». Материалы международной научной конференции 9-10 октября 2020 г. Под ред. Д. В. Аронова. Орел: ОГУ им. И. С. Тургенева, 2020.
- От революционной романтики к пониманию смысла: результаты дискуссии о перспективах трансформации российского политического режима. Фонд «Либеральная миссия» [Электронный ресурс]. URL: https://liberal. ru/defense-of-democracy/ot-revolyuczionnoj-romantiki-k-ponimaniyu-smysla-rezultaty-diskussii-o-perspektivah-transformaczii-rossijskogo-politicheskogo-rezhima (дата обращения: 08.02.2022 г.).
- Популизм как общий вызов. Отв. ред. К. Кроуфорд и др. М.: Политическая энциклопедия, 2017.
- Размышления о гипотетическом крушении политического режима в России. Фонд «Либеральная миссия» [Электронный ресурс]. URL: https://liberal.ru/defense-of-democracy/razmyshleniya-o-gipoteticheskom-krushenii-politicheskogo-rezhima-v-rossii (дата обращения: 08.02.2022 г.).
- Российский либерализм: итоги и перспективы изучения. «Х Муромцевские чтения». Под ред. Д. В. Аронова. Орел: ОГУ им. И. С. Тургенева, 2018.
- Россия 2018 года. Четверть века трансформации: удачные эксперименты и упущенные возможности. По материалам XXV Алтайской международной конференции. Под общ. ред. В. А. Рыжкова. М.: Школа гражданского просвещения, 2019.
- «Слепые пятна» в диалоге между Россией и Западом: от спора вокруг нарративов к улучшению взаимопонимания. М.-Берлин: Inmedio-ИППП, 2019. 52 с. (в соавторстве).
- Таврические чтения — 2019. Актуальные проблемы парламентаризма: история и современность. Международная научная конференция, СПб., Таврический дворец, 5-6 декабря 2019 г. Сборник научных статей. В 2 ч. Под ред. А. Б. Николаева. 2020. Ч. 2. С. 7-43.