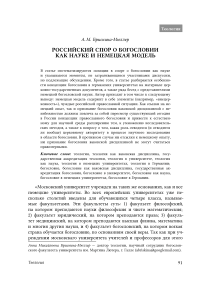Российский спор о богословии как науке и немецкая модель
Автор: Брискина-Мюллер Анна Михайловна
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Теология
Статья в выпуске: 3 (74), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье систематизируются позиции в споре о богословии как науке и указываются моменты, не затрагивающиеся участниками дискуссии, но подлежащие обсуждению. Кроме того, в статье разбираются особенно- сти концепции богословия в германских университетах на материале цер- ковно-государственных документов, а также ряда бесед с представителями немецкой богословской науки. Автор приходит в том числе к следующему выводу: немецкая модель содержит в себе элементы (например, «внецер- ковность»), чуждые российской православной ситуации. Как ссылки на не- мецкий опыт, так и признание богословия ваковской дисциплиной с не- избежностью должны повлечь за собой пересмотр существующей сегодня в России концепции православного богословия и привести к естествен- ному для научной среды расширению тем, к умножению исследователь- ских методов, а также к вопросу о том, какая роль отводится (и отводится ли вообще) церковному авторитету в процессе научного исследования в области богословия. В противном случае ни отсылки к немецкому опыту, ни признание богословия ваковской дисциплиной не могут считаться правомерными
Теология, теология как ваковская дисциплина, государственная аккредитация теологии, теология в университете, теология как наука, теология в немецких университетах, теология в германии, богословие, богословие как ваковская дисциплина, богословие в университете, богословие как наука, богословие в немецких университетах, богословие в германии
Короткий адрес: https://sciup.org/140190316
IDR: 140190316
Текст научной статьи Российский спор о богословии как науке и немецкая модель
факультета своих не было, а надобно было их выбирать из чужестранцев, то богословский факультет и не учрежден, и московский университет и поныне состоит только из трех факультетов, а не из четырех. Между тем для образования духовенства полезно было бы учредить этот факультет»1, — гласит адресованный императрице Екатерине II отзыв духовной комиссии по проведению «строгого испытания возвратившихся из Геттингена молодых людей»2. Комиссия придерживается мнения, что богословский факультет необходим, и предлагает купить для этой цели дом, пусть даже старый. Профессорами, считают члены комиссии, могут стать студенты, учившиеся за границей и уже вернувшиеся или собирающиеся вернуться в Россию. «Таким образом в духовенстве со временем оказалось бы много просвещенных людей»3. В ответ императрица повелела подготовить и подать ей проект богословского факультета в Москве. Повеление это осталось по разным причинам невыполненным4, а императрица, по всей видимости, вскоре и сама утратила интерес к идее создания богословского факультета. Однако в 1777 г. Екатерина все же поручила составление подобного проекта Синоду, который и был представлен императрице 25 октября5. На этот раз она уже сама оставляет проект без ответа, хотя в тот период Синод сознательно отправлял студентов учиться за границу, чтобы они впоследствии могли преподавать на новосозданном факультете6.
К концу XVIII в. Екатерина окончательно отказалась от идеи создания богословского факультета в рамках университета. Соответствующий указ от 29 января 1786 г. содержит ссылку на «правила, от предков Наших принятые и от Нас свято наблюдаемые»7. Так богословие осталось в ведении духовных учебных заведений.
Как констатация необходимости богословских факультетов, так и ссылка их сторонников на «немецкие университеты», так и отсылка их противников к особым российским традициям по-прежнему актуальны. Уже 250 лет тому назад в Российской империи царила неуверенность по поводу того, является ли университет действительно таким местом, в котором может и должно существовать богословие. И сегодня неуверенность эта высказывается как со стороны государства, так и со стороны Церкви. Церковь сомневается, не повредит ли богословию тесный контакт с гуманитарными науками, сформировавшимися под влиянием Просвещения. Государство и университет не уверены, не пострадает ли репутация университетской среды от соседства с подобной наукой. Нет уверенности и касательно того, является ли богословие вообще наукой.
Первые — удачные — попытки интеграции богословов в академическую среду предпринимались в XIX в., когда «академическое богословие» вступило в пору небывалого расцвета, оборвавшегося после революции 1917 г.
Изменения, с последствиями которых мы имеем дело сейчас, начались в 1990-е гг., когда стали возникать всевозможные курсы, институты и университеты, предлагавшие наряду с традиционными науками изучение богословия. По вопросу о том, следует ли признать богословие ваковской дисциплиной, то есть включить его в официальный перечень университетских наук, споры шли долгие годы. Изредка речь заходит и о прямом присутствии богословия в государственных университетах — в виде самостоятельных факультетов или отдельных кафедр.
-
I. Позиции
В споре представлены следующие позиции8.
-
I.1. Условные «позитивисты»
Позиция «позитивистов» очень простая: наукой может называться лишь та дисциплина, предмет исследования которой поддается материальному исследованию; результаты исследования должны быть верифицируемы. Богословие этому критерию не отвечает, значит, оно не наука и ему нет места в университете. Подобная установка свойственна всем «позитивистам». Однако в их среде есть оттенки: «жесткие позитивисты», «умеренные позитивисты» и «позитивисты, интересующиеся религией»:
-
a) «жесткие позитивисты» (представители естественных наук) убеждены в том, что гуманитарные науки в принципе не являются науками;
-
б) «умеренные позитивисты» считают, что богословие — в отличие от других гуманитарных дисциплин — не является наукой, потому что оно ограничено конфессиональными рамками в отличие от той же истории или филологии, которые универсальны;
-
в) «позитивисты, интересующиеся религией» — на основании подхода к предмету их еще можно условно назвать «религиоведами» (среди них есть и философы, и историки, и политологи, и социологи); они оспаривают научность богословия по причине свойственной ему перспективы носителя веры , а это, по их мнению, делает богословие необъективным . Объективное описание феноменов, связанных с религией, — дело религиоведения (философии, истории и проч.), то есть такой науки, которая располагает ясными методами и нейтральным, незаинтересованным подходом к объекту исследования.
-
I.2. Нейтральные и благосклонные «наблюдатели», богословы-автодидакты
В этой группе встречаются представители всех наук, в том числе и естественных. Это ученые, не имеющие богословского образования, занимающиеся богословскими и церковными темами, однако организационно и ментально независимые от Церкви. Зачастую они считают и называют себя богословами. Данная группа весьма продуктивна в научном плане, поскольку ее представители — профессиональные ученые, владеющие научным инструментом и способные как на научные контакты с «позитивистами», так и на научно-духовные контакты с Церковью.
-
I.3. «Церковные богословы» (или «клерикалы», как эту группу называют «позитивисты») представляют внутрицерковную позицию. Часто они имеют священный сан или работают в церковных структурах.
-
II. Темы дискуссии
Сама же дискуссия ведется по поводу следующих пунктов.
-
II.1. По поводу предмета богословия как науки
В чем состоит предмет богословского исследования? — спрашивают «позитивисты». Бог? Тогда богословие нельзя признать наукой, потому что такой предмет, как Бог, не верифицируем. Если предметом богословской науки являются документы религии и религиозные явления, то нет необходимости создавать самостоятельную дисциплину — богословие, а достаточно религиоведения, — считают условные «позитивисты» и «религиоведы», — потому что с подобными документами и явлениями работают и историки, и религиоведы.
-
II.2. По поводу целей богословия как науки
-
a) Вопрос, задаваемый чаще всего: Чем именно будет заниматься богословие как наука, чем уже не занимались бы другие гуманитарные дисциплины ?
«Позитивисты» и «религиоведы» подозревают Церковь в том, что она на самом деле преследует цель «клерикализации» общества.
-
б) Однако по поводу целей богословия как научной дисциплины нет уверенности и среди представителей Церкви. Является ли целью богословия «только наука» или все-таки и спасение ? Служит ли богословие церковному благовестию, то есть имеет ли оно миссионерскую ценность?
Основная часть церковных сторонников присутствия богословия в университете действительно — сознательно или нет — ведόма миссионерскими соображениями. Основной аргумент со стороны Церкви состоит в том, что богословие «обогатит» жизнь университета, пропитывая собой все науки путем учреждения кафедр богословия во всех дисциплинах. Таким образом, богословие рассматривается не как одна из многих наук, а как наука с особым статусом . А это, в свою очередь, выдает иерархически мыслящуюся конструкцию в умах церковных участников дискуссии. В подобной концепции богословие не может быть признано наукой в обычном смысле слова.
-
II.3. По поводу «духовной» стороны богословия
«Церковные богословы» считают и называют богословие «церковной наукой». Спор о богословии как науке они называют «спором о легализации церковной науки»9. В этом споре церковная сторона настаивает на необходимости «духовного опыта» для занятий богословием.
Духовный опыт в качестве условия для занятий богословием и «церковность» богословия — все это подтверждает в глазах «позитивистов» и «религиоведов» их сомнения касательно научного характера богословия, потому что такие категории, как «опыт» и «церковность», возведенные в статус условия для занятий наукой, по их мнению, совершенно уничтожают объективный характер богословия как науки.
-
III. Вопросы, не затрагивающиеся в дискуссии
Есть целый ряд моментов, о которых речь в этом споре, судя по всему, не заходит.
С церковной стороны звучит аргумент или обещание того, что университет только выиграет от присутствия богословия. При этом не обсуждается, выиграет ли, и если да, то что именно выиграет богословие от конктакта с другими дисциплинами.
Конкретная концепция богословия как ваковской дисциплины остается неясной. Судя по всему, все участники спора исходят из того, что богословие «поселится» в университетской среде один к одному в том виде, в каком оно сегодня преподается в духовных семинариях и академиях. Малоподвижная, очень традиционная конструкция, таким образом, будет перенесена в среду, живущую за счет подвижности.
Не обсуждается, предполагает ли русское православное богословие как-то менять свой характер или подход к церковно-историческим или литургическим текстам. В качестве образца достаточно указать на то, что малейшие академические сомнения касательно, например, необходимости исторической контекстуализации, а потому и касательно оправданности антииудейской гимнографии Страстной седмицы в той форме, в какой она поется сегодня в храмах, вызывают протесты с церковной стороны со ссылкой на то, что эти тексты не подлежат обсуждению. Подобная установка уже сейчас делает невозможной любого рода научную дискуссию. При попадании в университетскую среду подобный «дискурс» приведет к дисквалификации богословия как науки в среде прочих гуманитарных дисциплин.
-
IV. Богословие в немецких университетах
В полемике вокруг богословия как ваковской дисциплины церковные богословы в России часто (как уже и в XVIII в.) ссылаются на «немецкие университеты», указывая на то, что в западных университетах всегда были богословские факультеты. Поэтому имеет смысл рассмотреть немецкую модель, то есть буквально опросить ряд представителей немецкого богословия. Материалом может служить ряд подготовленных нами интервью, опубликованных в 2016 г. в журнале «Государство, религия, церковь в России и зарубежом»10, одно интервью, опубликованное на портале «Православие и мир»11, а также официальные документы, касающиеся концепции богословия в немецких университетах12. Таким образом, мы располагаем пятью беседами: тремя — с представителями систематического богословия, одной — с представителем церковной истории и одной — с представителем религиозной педагогики. Это профессора богословия, преподающие в университетах Мюнстера, Тюбингена, Эрфурта, Ольденбурга и Галле; двое из них протестанты, трое — католики.
На основании этих бесед ситуацию с богословием в немецких университетах можно кратко описать следующим образом.
Первое, что надлежит констатировать: присутствие богословия нуждается в постоянном оправдании и в немецких университетах. Позитивистские взгляды широко распространены и в Германии.
В конце 2000-х и вплоть до 2010 г. в Германии шли споры о судьбе богословия в университете. Положительный для богословия исход спора был неочевиден. Результат дискуссии зафиксирован в документе, составленном немецким Государственным советом по науке, — «Рекомендации касательно дальнейшего развития богословия и наук, занимающихся вопросами религии» („Empfehlungen zur Weiterentwicklung von Theologien und religionsbezogenen Wissenschaften“)13. Документ был принят 29 января 2010 г. Он занимает 169 страниц и содержит соображения в пользу присутствия богословия в университете, краткую историю богословия в немецких университетах, статистику по количеству католических и протестантских факультетов, институтов и церковных высших учебных заведений, тенденции организационного развития немецкого богословия за последние 50 лет, а также библиографию. Документ касается состояния не только христианского, но и иудейского и мусульманского богословия в немецких университетах.
Описанная в этом документе модель отличает Германию от большинства европейских соседей.
Документ констатирует, что «религиозные привязанности по-прежнему оказывают решающее влияние на… культурные пространства» и что «потребность в научной экспертизе по вопросам религии» растет. В деле богословского образования государство и Церковь («религиозные сообщества») работают сообща, поскольку образование составляет их «общую заботу». Государство заключает договоры с Церквями.
В присутствии богословия в университете заинтересованы все стороны: государство, Церковь, университет и само богословие.
Государство. Государство заинтересовано в том, чтобы «религиозные ориентиры граждан» «приносили плоды» «на пользу стабильности и… процветания общества». «Дифференцированные формы выражения нравственных представлений», сформированные религиями, важны, считает государство, и для секулярного общества: в обхождении людей друг с другом, в обхождении людей с природой, в пограничном опыте человеческого существования. В университетской среде «религиозные сообщества сталкиваются с необходимостью вновь и вновь интерпретировать свою веру в условиях постоянно меняющихся знаний и горизонтов». Это, по мнению государства, позволяет «противодействовать тенденциям… фундаментализации религиозных точек зрения», что идет на пользу как государству, так и обществу.
Церковь, богословие. Церкви заинтересованы в интеграции религиозных ориентиров и нравственных ощущений в процесс поиска всеобщего взаимопонимания в обществе. Подобная интеграция происходит в том числе с помощью университетской дисциплины — богословия. В университете — методами науки — совершается «перевод базисных ориентиров»
религий на всем понятный язык. В университете богословие находится в тесном контакте с другими науками, особенно с философией, филологиями и историческими науками. Таким образом, богословие вынуждено говорить с ними на равных, что, в свою очередь, заставляет его держаться высокого академического уровня.
Университет. Благодаря богословию университет постоянно сталкивается с этическими вопросами. Богословие заставляет другие — в особенности точные — науки задумываться о границах чисто наукообразной («позитивистской») интерпретации человека и мира. Богословие предлагает варианты интерпретации человеческого существования.
-
V. Особенности немецкой концепции
На фоне российской ситуации особый интерес вызывают следующие моменты:
-
— Что есть религия, в Германии определяется самими религиозными сообществами .
-
— Государство не выносит суждений о мировоззрении граждан; оно нейтрально и только создает условия в деле образования.
-
— Государство и общество заинтересованы в присутствии богословия в университете, потому что пользуются конкретными практическими плодами «просвещенного» богословия в культуре, экономике, медицине и политике, в мирном сосуществовании религий в обществе.
-
— Финансирование богословских факультетов и богословской науки со стороны государства не рассматривается как финансирование Церкви; иными словами, государство «оплачивает» науку, а не Церковь.
-
— Ответ на вопрос касательно сомнений в научности богословия формулируется следующим образом: научный характер богословия состоит в том, что основания веры вводятся в рациональный дискурс; это происходит с применением прозрачных методов.
-
— С точки зрения немецкого научного сообщества, научный характер богословия не умаляется:
-
а) конфессиональным характером богословия. Конфессиональный характер религии в школе и богословия в университете не считается «клерикализацией» общества;
-
б) фактом поиска истины (ибо с теориями истины работает и юриспруденция, и философия);
-
в) личной религиозностью студентов и доцентов. В Германии «вера», взгляд изнутри ситуации веры не считается фактором, делающим богословие ненаучным.
— Ответ на вопрос о том, зачем нужно богословие как самостоятельная дисциплина, если уже есть религиоведение и философия, как раз и состоит в указании на особую перспективу богословия — на взгляд изнутри религии. Богословие пребывает в диалоге с целым рядом дисциплин (филологией, историей, психологией, музыковедением, педагогикой и многими другими) и вносит во всеобщий дискурс — на рациональном языке — то, что характерно (в нашем случае) для христианской веры.
— Особенно интересным для российского наблюдателя представляется убежденность немецких богословов в том, что и университетская среда благотворно сказывается на богословии , поскольку в научной среде оно располагает академической свободой, защищающей его от церковных ограничений (!) . Эта мысль для российского наблюдателя совершенно новая. Богословие в Германии не «церковно», оно внецерковно , поскольку наука, описывающая себя как «церковная», перестает быть «наукой». «Церковность» в этом представлении означает ангажированность, то есть отсутствие свободы, необъективность в исследовательской работе. Однако в глазах немецких богословов богословие нельзя называть и «университетским», противопоставляя его «церковному».
— С этим связано и следующее, весьма интересное для российского наблюдателя обстоятельство: богословие в Германии не есть дело ни государства, ни Церкви, а только ученых: физика есть дело физиков, а богословие есть дело богословов, которые хоть и сотрудничают с государством и Церковью, но в научных занятиях и выводах независимы от них.
-
— Новостью для российского наблюдателя является и то обстоятельство, что немецкие церкви не рассматривают университет как поле для миссии. Конечно, они тоже убеждены в том, что богословие обогащает университетскую среду. Но они убеждены и в том, что и университетская среда обогащает богословие , а через него и церкви.
— Богословие рассматривает себя в Германии действительно лишь как одна из многих дисциплин, лишь как одна из возможных интерпретаций действительности наряду с философией, литературоведением, искусствоведением, медициной и проч. Таким образом, университет предстает отражением универсальной картины мира и человека — универсальной в смысле полноты всей палитры наук и интерпретаций.
— В Германии богословие понимается много шире, чем до сих пор в России. В России, например, церковный историк не считается бо-гословом14. В системе немецкого богословия в университетской среде церковный историк — конечно богослов. А вот филолог, занимающийся богословскими темами или пишущий богословские тексты, богословом не становится. Богослов — тот, кто прошел университетский курс богословия, независимо от того, в какой области богословия он специализируется: в систематическом ли богословии, в религиозной ли педагогике или экзегетике.
-
— Современное немецкое богословие отмечено интересом к человеку. Вопрос о человеке представляется тем шарниром, с помощью которого богословие поддерживает диалог с естественными науками и с миром.
— Диалог с естественными науками и с миром немецкое богословие выстраивает на языке философии. Поэтому философия играет колоссальную роль как в протестантском, так и в католическом богословии в Германии. Непривычному глазу российского наблюдателя многие немецкие тексты из области систематического богословия и богословской этики представляются философией, но никак не богословием.
VI. Выводы
Сравнение ситуаций в отношении богословия в Германии и России показывает, что
-
a) в России уже 250 лет тому назад ссылались на немецкие университеты в поисках аргументов в пользу учреждения богословских факультетов в российских университетах;
-
б) не только российская система богословского образования в силу известных исторических обстоятельств пошла совсем по другому пути, чем немецкая, но и представления о содержании, методах, целях и месте богословия сегодня сильно различаются в русской православной и немецкой католической и протестантской среде;
-
в) сегодня в дискуссии вокруг признания богословия полноценной, ваковской дисциплиной с соответствующим признанием научных
степеней вновь слышны отсылки к немецкой концепции богословия в университете, при том что свойственные немецкой концепции богословия особенности российскими участниками дискуссии, очевидно, не осознаются.
Очевидно и то, что концепция богословия как науки в России в настоящий момент еще не сформировалась. Позиции спорящих сторон зачастую содержат в себе недоразумения. Немецкая модель присутствия богословия в университетской среде включает в себя элементы (такой, например, как «внецерковность»), чуждые российской православной ситуации. Ссылаясь в поисках дополнительных аргументов в пользу признания богословия наукой в ваковском смысле на немецкий опыт, православные сторонники богословия как науки должны отдавать себе отчет в том, что как ссылки на немецкий опыт, так и признание богословия ваковской дисциплиной с неизбежностью должны повлечь за собой пересмотр существующей концепции православного богословия и привести к расширению его тем, к умножению применяемых исследовательских методов, а также к выяснению вопроса о том, какая роль отводится (и отводится ли вообще) церковному авторитету в процессе богословского научного исследования. В противном случае православное богословие в России не может считаться наукой в том смысле, какой обычно вкладывается в понятие гуманитарной науки.