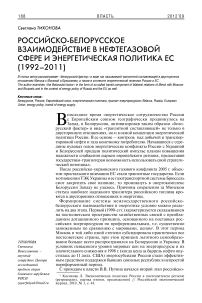Российско-белорусское взаимодействие в нефтегазовой сфере и энергетическая политика ЕС (1992-2011)
Автор: Тихонова Светлана Вячеславовна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политика в фокусе
Статья в выпуске: 9, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье автор рассматривает «белорусский фактор» в виде так называемой транзитной составляющей в двусторонних отношениях Минска с Москвой и Брюсселем, а также в контексте энергетической политики России и ЕС.
Белоруссия, Россия, европейский союз, энергетическая политика, транзит энергоресурсов
Короткий адрес: https://sciup.org/170166572
IDR: 170166572
Текст научной статьи Российско-белорусское взаимодействие в нефтегазовой сфере и энергетическая политика ЕС (1992-2011)
В последнее время энергетическое сотрудничество России с Европейским союзом географически продвинулось на Запад, в Белоруссию, активизировав таким образом «бело-русский фактор» в виде «транзитной составляющей» не только в двусторонних отношениях, но и в самой концепции энергетической политики России. В ее основе — контроль над добычей и транспор -тировкой нефти и газа конечному потребителю. Начавшиеся с сере -дины нулевых годов энергетические конфликты России с Украиной и Белоруссией придали политический импульс планам повышения надежности снабжения сырьем европейского региона, предоставив государствам транзитерам возможность использовать свой стратеги ческий потенциал.
После российско-украинского газового конфликта 2005 г. объектом пристального внимания ЕС стали транзитные государства. Если в отношении ТЭК Украины и ее газотранспортной системы Брюссель смог закрепить свое влияние, то проникнуть в энергокомплекс Белоруссии Западу не удалось. Причины сохранения за Минском статуса наиболее надежного транзитера российского топлива кро ются в двусторонних отношениях в энергетике.
Формирование системы межгосударственного российско-белорусского взаимодействия в энергетике условно можно разде лить на два этапа. Первый (1990 -е гг.) характеризуется складыванием на постсоветском пространстве хозяйственных связей с преобла данием дотационного принципа, основанного на поставках рос сийских энергоресурсов по преференциальным, т.е. существенно заниженным по сравнению с мировыми, ценам1. В этот период Москва в той либо иной степени субсидировала практически все постсоветские страны, при этом принцип льготного ценообразо вания больше всего распространялся на Белоруссию и Украину. В условиях невысокого уровня мировых цен на энергоресурсы и их значительного снижения в 1998 г. (когда цена за баррель нефти опу-стилась до 11 долл. США) энергосубсидии России стали эффектив-ным средством поддержки бывших союзных республик в непростой пореформенный период.
С приходом к власти В.В. Путина начался второй этап российско- белорусского энергетического сотрудничества. В его основе – переход от политики дотаций и неэквивалентного торгового оборота к политике «прагматизма», в частности к увеличению цены на экспорт российских углеводородов.
Новый принцип ценообразования коснулся белорусских потребителей гораздо позже остальных импортеров российского сырья. То что Белоруссия стала последней страной, на которую с 2007 г. распространились изменившиеся условия ценовой политики, в значительной степени обусловлено интенсивным интеграционным взаимодействием сторон: среди бывших республик СССР Россия и Белоруссия достигли наибольших результатов в интеграционном строительстве. Высокий интеграционный потенциал был ключевым фактором сохранения льготных поставок российских энергоресурсов в Белоруссию.
В течение 1990-х гг. формировалась правовая база интеграционного сотрудничества России и Белоруссии, однако энергетика и вопросы энергопоставок оставались в сфере компетенции национальных правительств. В то же время изменение условий энергопоставок посредством их приближения к рыночной цене требовало законодательного сопровождения.
До середины 2006 г. правовые основы двусторонних отношений в энергетике были частью нормативной базы формирующегося союзного государства. Фактически процесс институционализации двусторонних отношений в энергетике начался в мае 2006 г., когда было принято решение о поэтапном переходе на рыночную цену на газ для всех без исключения потребителей. 31 декабря 2006 г. правительства России и Белоруссии подписали газовое соглашение, согласно которому российская сторона в лице Газпрома осуществляла постепенный переход к рыночным ценам на поставку газа в республику. Одним из условий договора стала покупка российским газовым монополистом 50% акций Белтрансгаза, осуществляющего транспортировку газа белорусским потребителям и его транзит через территорию республики по магистральным газопроводам. В феврале 2010 г. Газпром начал управлять газотранспортным предприятием на паритетной основе вместе с белорусским государством.
11 января 2007 г. Россия и Белоруссия подписали соглашение «О мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов»1. Этот документ, наряду с соглашением от 9 декабря 2010 г. о беспошлинных поставках нефти и нефтепродуктов в Таможенном союзе (ТС), составляет в настоящее время законодательную основу двустороннего сотрудничества в нефтяной отрасли.
Решение энергетического вопроса в виде новых ценовых условий было приурочено к запуску в рамках ТС единого экономического пространства (ЕЭП), предполагающего установление беспошлинного режима на поставки российской нефти. Однако в условиях урегулированного нефтегазового вопроса Минск с целью ослабления зависимости от энергопоставок из России начал искать другие возможности решения своих внутренних проблем на пути энергетического сотрудничества, в т.ч. и сотрудничество с ЕС.
Энергодиалог Белоруссия – ЕС осуществляется по двум направлениям: в рамках европейской политики соседства (ЕПС) и программы «Восточное партнерство» (ВП).
По программе «Политика европейского соседства» ( European Neighborhood Policy ) Минск участвует в таких проектах, как «Поддержка и воплощение всеобъемлющей энергетической политики в Республике Беларусь в рамках Европейского инструмента партнерства и соседства», «Поддержка внедрения всеобъемлющей энергетической политики ЕС для Беларуси». В 2010 г. стороны начали еще один совместный энергопроект, на реализацию которого Евросоюз выделил 5 млн евро.
Важным инструментом взаимодействия европейцев с Белоруссией по линии ЕПС стала созданная в 1995 г. программа международного сотрудничества в области энергетики INOGATE, к которой белорусы присоединились в 2004 г. Как утверждают организаторы программы, их действия направлены в первую очередь на повышение энергоэффективности энергетической отрасли стран-участниц. Безусловно, это важная, но далеко не главная цель европейцев. В основе «энергоэффективных» проектов с участием Белоруссии лежат опасения, что Россия будет использовать энергетический фактор как политиче - ский рычаг давления на ЕС, что, в свою очередь, создаст угрозу для политической безопасности, независимости и экономического развития последнего1. Поэтому усилия инициаторов подобных проектов направлены в первую очередь на снижение зависимости от российских сырьевых поставок, хотя сами европейцы признают, что «другие страны-поставщики и пути доставки энергоносителей в Европу гораздо проблемнее, чем Россия»2.
Энергетическая политика Евросоюза является, пожалуй, наиболее ярким примером того, насколько его реальные действия могут идти вразрез с декларируемыми. Под предлогом обеспечения энергобезопасности в регионе Брюссель устанавливает контакты со странами – транзитерами российских углеводородов, прежде всего с Белоруссией, вовлекая их в проекты, направленные на поиск новых возможностей поставок и транзита энергоресурсов. Одновременно с этим отдельные страны ЕС участвуют в проектах, снижающих транзитную значимость Белоруссии. Речь идет о строительстве транзитной трубы – Балтийской трубопроводной системы–2 (БТС–2), альтернативной белорусской «Дружбе», и о Северо-Европейском газопроводе (СЕГ), поставляющем газ европейским потребителям в обход Белоруссии.
Налицо не просто отсутствие последовательности в действиях европейцев в отношении Белоруссии – речь идет об использовании разных, порой взаимоисключающих вариантов сотрудничества, реализацию которых можно проследить и на примере «Восточного партнерства» (ВП).
Если для А. Лукашенко участие в «Восточном партнерстве» мотивируется возможностью диверсифицировать внешнюю политику с целью ограждения национальной экономики от негативных последствий дальнейшего роста цен на российские энергоносители, то для Евросоюза вовлечение Белоруссии в программу общеевропейского сотрудничества определяется, в первую очередь, перспективой ослабления российского влияния на выбор ее внешнеполитического курса.
По мнению немецкого политолога А. Рара, целью европейской программы является создание государствами – транзитерами российских энергоресурсов «общеевропейской системы энергобезопасности, защищающей их от давления со стороны России»3. Речь шла о стремлении ЕС включить Минск в процесс либерализации энергетического рынка Европы, предполагающий создание международного газового консорциума с дальнейшей приватизацией инфраструктуры иностранными инвесторами. Другими словами, европейцы под предлогом обеспечения энергобезопасности в Европе с участием Белоруссии на деле стремятся получить доступ к ее внутренней энергетической системе, что противоречит условиям российско-белорусского сотрудничества в энергетике. Западноевропейские страны в целях предотвращения возрастающего влияния России в течение многих лет проявляли интерес к процессу приватизации ТЭК Белоруссии и ее нефтегазотранспортной инфраструктуры.
ЕС всячески препятствовал попыткам Москвы связать напрямую производителя энергоресурсов с конечным потребителем. С середины первого десятилетия XXI в. его усилия были направлены на «создание единого либерализованного рынка газа как эффективного способа обеспечения энергетической безопасности»4. Однако довольно скоро выяснилось, что, вовлекая Белоруссию в процесс создания единой европейской энергетической системы без участия России, Евросоюз обрекает себя на поражение. Первыми среди членов ЕС пагубность этой затеи осознали немцы. Благодаря позиции Германии, допустившей Газпром в свои газораспределительные сети, к которой присоединилась Франция, до сих пор не вступил в полную силу Третий энергетический пакет.
Особую важность в этом контексте представляет стремление Брюсселя не столько противостоять попыткам Газпрома установить контроль над газораспределительными сетями стран – членов ЕС, сколько не дать возможности газовому монополисту проникнуть в газотранспортную систему транзитных государств, что неминуемо приведет к столкновению интересов России и Евросоюза.
Таким образом, попытки России и ЕС адаптировать и приспособить ТЭК Белоруссии к изменившимся внешним условиям и разрушить монополию государства на стратегическую отрасль на протяжении 1990-х гг. – начала XXI в. оказались по большей своей части несостоятельными.
России как главному внешнеполитическому партнеру и союзнику Белоруссии удалось в этом направлении достигнуть гораздо больших результатов, чем ЕС. Общая история становления национальных хозяйств и вытекающая из этого экономическая взаимозависимость республик способствовали сохранению и приумножению высокого уровня интеграционного взаимодействия Москвы и Минска. Создание общего рынка нефти и нефтепродуктов с последующим правовым оформлением единой системы доступа к трубопроводам демонстрирует приверженность сторон к углублению региональной экономической интеграции.
Что же касается Европейского союза, то он так и не смог, да и не захотел сформулировать приемлемый для Минска сценарий энергетического сотрудничества. Приобщение Белоруссии к «европейской семье» с помощью программ по энергетической безопасности лишь усиливало конкуренцию за республиканский энергетический рынок. До 2012 г. в борьбе за конкуренцию белорусское руководство стремилось поддерживать независимый внешнеполитический курс, одним из важных инструментов реализации которого стал транзитный статус Белоруссии.