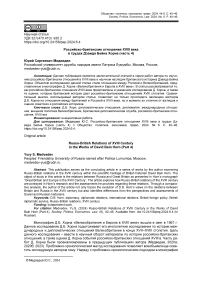Российско-британские отношения XVIII века в трудах Дэвида Бейна Хорна (часть 4)
Автор: Медведев Ю.С.
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Политика
Статья в выпуске: 6, 2024 года.
Бесплатный доступ
Данная публикация является заключительной статьей в серии работ автора по изучению российско-британских отношений в XVIII веке в научном наследии британского историка Дэвида Бейна Хорна. Объектом исследования данной статьи стали отношения между Россией и Великобританией, представленные в монографии Д. Хорна «Великобритания и Европа в XVIII веке». В статье рассматривается то, как российско-британские отношения XVIII века представлены в указанном исследовании Д. Хорна, а также те оценки, которые британский историк дает российско-британским отношениям XVIII столетия. Сравнительный анализ, используемый автором статьи, позволяет не только проследить эволюцию взглядов Д.Б. Хорна на отношения между Британией и Россией в XVIII веке, но и выявить их отличия от взглядов и оценок советских и российских историков.
Д.б. хорн, дипломатические отношения, дипломатия, международные отношения, внешняя политика великобритании, британская дипломатическая служба, российско-британские отношения, xviii век
Короткий адрес: https://sciup.org/149145895
IDR: 149145895 | УДК: 327(470:410): | DOI: 10.24158/pep.2024.6.4
Текст научной статьи Российско-британские отношения XVIII века в трудах Дэвида Бейна Хорна (часть 4)
используется сравнительный метод исследования для сопоставления оценки Д. Хорна с известными оценками и выводами отечественных исследователей.
Монография состоит из введения, тринадцати глав, заключения и библиографии1. Данное исследование Д.Б. Хорна отличается от его прежних работ по истории европейской дипломатии некоторыми особенностями (Horn, 1930; 1961). Во-первых, если в предыдущих трудах британского историка изобиловали факты, цитаты из редких, зачастую неопубликованных архивных источников, то теперь содержание монографии носит, скорее, обобщающий характер. Во-вторых, британские историки ХХ в. не представляли в своих работах развернутый анализ источников и историографические обзоры исследуемой ими темы. В своих предыдущих исследованиях Д. Хорн также следовал этой негласной традиции. Однако в данной монографии автор после каждой главы, посвященной отношениям Великобритании с отдельным государством, приводит краткий библиографический список основных использованных источников и литературы. И в-третьих, если ранее в своих работах Д.Б. Хорн реконструировал исключительно историю внешней политики и дипломатических отношений, то в данной монографии дипломатические отношения Великобритании и России представлены неразрывно от торговли между обеими странами.
Несмотря на название «Внешняя политика Англии 1603–1702», первая глава, по большей части, посвящена внешней политике времени правления Вильгельма Оранского. По мнению историка, «непрекращающаяся история вмешательства Британии в дела Европы и неевропейского мира в качестве Великой Державы начинается c 1689 года» (Horn, 1967: 2). Характеризуя внешнюю политику Англии этого периода, Д. Хорн пишет, что она «была и сформулирована, и осуществлена королем (Вильгельмом Оранским – Ю.М.), на неё почти не влияли его министры и практически беспрепятственно одобрял Парламент, если не считать традиционное нежелание голосовать за военные расходы» (Horn, 1967: 5).
Во второй главе «Механизм осуществления внешней политики в XVIII веке» автор монографии пишет о теории и практике взаимодействия лиц, формировавших и осуществлявших внешнюю политику страны: глава государства, премьер-министры, руководители внешнеполитического ведомства, лидеры политических партий и дипломаты, непосредственно находящиеся при иностранных дворах.
Говоря о периоде правления после Вильгельма III – Анны Стюарт, Д. Хорн пишет, что «контроль над внешней политикой переходил от королевы к её министрам и лидерам партий… Большую часть правления Анны важнейшие решения принимали Мальборо и Годолфин, находясь (между собой) в тесной гармонии» (Horn, 1967: 6). В этой связи Д. Хорн упоминает Россию, говоря, что традиционно Южный департамент британского МИДа, в ведении которого находились отношения с Францией, считался старшим из двух. Но с воцарением представителей Ганноверского дома и ростом положения России и Пруссии до статуса Великих Держав главенство перешло к Северному секретариату (Horn, 1967: 13).
По мнению британского историка, если в первой половине XVIII в. курс внешней политики, проводимой министерством, не противоречил курсу короля, то во время Очаковского кризиса (1791 год – Ю.М.) лорд Кармартен выбросил эту «формулу» за борт (Horn, 1967: 13). «Пока эффективность королевского направления внешней политики Британии снижалась, недостатки разделения зоны ответственности министерства между двумя госсекретарями становились очевиднее и серьезнее», – сообщает автор, – «и было ужасно, когда у них были личные противоречия, и каждый намеревался расширить своё персональное влияние на внешнюю политику за счет другого» (Horn, 1967: 13).
Историк указывает, что «время от времени на протяжении всего XVIII столетия, когда конфликты между обоими госсекретарями становились особо острыми, каждый из них пытался обеспечить назначение своего собственного протеже ко двору, где правительство Британии уже было представлено сторонником другого госсекретаря» (Horn, 1967: 14). Д. Хорн приводит примеры противостояния британских госсекретарей в XVIII в., но подчеркивает, что, в отличие от Людовика XV, «никто из королей ганноверской династии не делал серьёзных попыток действовать в обход своих госсекретарей и посылать инструкции британским дипломатическим агентам за границей напрямую. Хотя госсекретари периодически подозревали, что их подчиненные получали инструкции от короля частным образом во время личных аудиенций» (Horn, 1967: 14).
Именно Георг III, по словам Д. Хорна, взял на себя инициативу отделить внутреннюю политику от внешней и создал Министерство иностранных дел (Foreign Office) в 1782 г. Чарльз Фокс, ставший первым госсекретарем в Форин Офис, по мнению Д. Хорна, всё еще не был никоим образом последней инстанцией ни в выработке внешней политики, ни даже в повседневном её осуществлении. После 1782 г. госсекретарь проводил внешнюю политику Великобритании под надзором короля и его премьер-министра (Horn, 1967: 14–15).
По-видимому, Д.Б. Хорн ранжировал страны по степени их значимости во внешнеполитической системе Великобритании. Так, последующие главы монографии посвящены отношениям Лондона с отдельными странами и регионами, в частности, с Францией, Голландией, Австрией, Пруссией, меньшими государствами Германии.
Только восьмая глава посвящена отношениям Лондона и Петербурга. Затем идут главы об отношениях со странами Скандинавии, Испанией, Португалией и варварскими государствами, Швейцарией, государствами Италии. Заключительная глава носит название «Великобритания, Турция и Восточный вопрос».
Глава, посвященная российско-британским отношениям, носит название «Британия, Россия и Польша». В библиографическом списке в конце главы среди указанных шести источников упомянут сборник Императорского исторического общества с донесениями британских дипломатов XVIII в. В списке использованной литературы из 32 работ на английском и немецком языках также есть «русский след», а именно: указаны работы Глеба Струве1, М.Н. Шпрыговой (Shprygova, 1962) и Л.А. Никифорова «Русско-английские отношения при Петре I», но последняя – в немецком переводе. Однако в британском издании монографии Д. Хорна вместо инициалов Леонида Алексеевича ошибочно указаны инициалы «I.N.»2 (Shprygova, 1962: 234).
Хотя формально глава охватывает период от правления Петра Великого до Павла I, правлению Петра I и Екатерины II уделяется почти по половине главы исследования соответственно.
После упоминания установления дипломатических отношений Ричардом Ченслером повествование сразу переходит к правлению Петра I. По мнению историка, визит Петра I в Англию в 1698 г., а затем Северная война (The Great Northern War) заставили английских политиков рассмотреть ценность политического союза с Россией (Horn, 1967: 201). Более того, последующее завоевание Петром I шведских провинций и перенос столицы в Петербург не просто изменили политические отношения между Россией и Британией, но и трансформировали структуру торговли между ними (Horn, 1967: 203). Интересно, что Д. Хорн соглашается с мнением, высказанным рядом советских историков, не указывая имен3, что «без русских товаров для флота Британия вскоре выбыла бы из ряда Великих Держав и, возможно, не смогла бы построить первую Британскую империю» (Horn, 1967: 203). Он добавляет, что товары для флота стали еще более важными в связи с расширением сферы конфликтов, характерных для войн, которые проводила Британия в XVIII в. (Horn, 1967: 203).
Описывая российско-британские отношения после воцарения Ганноверской династии в 1714 г., Д. Хорн приводит интересную точку зрения, что нахождение российских войск в Мекленбурге в 1716 г. вблизи от границ Ганновера было не единственной причиной внезапной вспышки враждебности к России. Присутствие русских войск служило препятствием для личных амбиций Георга I, который хотел расширить влияние, а по возможности – и территории своей ганноверской вотчины. Политические и экономические причины для русофобии, по словам историка, поддерживались и с религиозной точки зрения, т. к. противник Петра I Карл XII рассматривался как защитник протестантизма на Севере. Историк указывает, что эти антирусские настроения стимулировались искусственно (Horn, 1967: 204–205).
Д. Хорн подробно останавливается на русско-английском торговом договоре 1734 г., его причинах и статьях соглашения. Он разделяет оценку, данную другими британскими историками, в частности Д.К. Ридингом, который назвал договор «коммерческим триумфом Британии»4 (Horn, 1967: 209).
Говоря о событиях, предшествующих дипломатической революции, Д. Хорн пишет, что «хотя британские министры имели практические доказательства затрат и задержек в обеспечении реальной помощи со стороны России, они были готовы попробовать новое [использование] экспедиционного корпуса несколькими годами позже» (Horn, 1967: 211). В данном случае британский историк, описывая события окончания войны за австрийское наследство, пытается оправдать политику британских министров, обвинив Петербург. Исследователь российско-британских отношений В.М. Кумок пишет о событиях конца июля 1748 г. так: «Британцы, уверившиеся в достижении приемлемого для себя мира, попытались приостановить действие конвенции и субсид-ные выплаты по ней» (имеется в виду русско-английская конвенция 1748 г. – Ю.М.). И добавляет, что Россия смогла добиться осуществления выплат «после некоторых проволочек», называя эту позицию Британского двора и его союзников «не вполне добросовестной»5.
Русско-английская субсидная конвенция 1755 г. и последовавшая за ней дипломатическая революция неоднократно становились объектом исследования отечественных историков (Анисимов, 2014; 2021; Яковлев, 1997; 2000)1. По мнению Н.Н. Яковлева, именно конвенция 1755 г. была «главной предпосылкой перемены внешнеполитических союзов» (Яковлев, 2000: 129).
В своей статье к «Кембриджской новой истории» Д. Хорн высказывает схожее мнение, говоря, что данное примирение Франции и Австрии «обычно оценивается как величайшая из всех дипломатических революций» (Lindsay, 1957: 440). В 1957 г. он пишет, что, «заключив субсидный договор с Россией и пытаясь по своей наивности, если не сказать невежеству, объединить его с Вестминстерской конвенцией, Ньюкасл полностью разрушил ту систему союзов, которую он и большинство его современников считали необходимой для безопасности Британии» (Lindsay, 1957: 459). Однако в исследуемой монографии его мнение кардинально меняется. Теперь он отмечает следующее: «Блестящая идея Ньюкасла – использовать договор с Россией для сохранения мира в Германии, а не для начала войны там, как намеревалась Россия» (Horn, 1967: 211). Таким образом, можно видеть изменение оценок британского историка, который уходит от нелицеприятных оценок деятельности британского руководства и его недобросовестного отношения к союзникам. А ответственность за начало Семилетней войны перекладывает на Россию (и Австрию) вследствие их агрессивного отношения к Пруссии.
Отказ Лондона прислать эскадру в Балтику, несмотря на продолжительные требования Фридриха, Д. Хорн объясняет заинтересованностью в российских товарах для британского флота. Кроме того, Питт-старший считал, что, с одной стороны, эффективность английской эскадры при союзе Швеции и России на Балтике была бы крайне низкой, а с другой стороны, он полагал, что главная цель Британии – война на море за колонии (Horn, 1967: 212).
Д. Хорн указывает на интересный факт: ещё в годы Семилетней войны в Британии появляются первые следы идеи о том, что, утратив союз с Австрией, Британия должна попытаться заменить его так называемой «Северной системой» (Northern System), которая могла бы противостоять союзу Бурбонов и Габсбургов в Южной Европе. И первым условием этой системы был союз России и Пруссии. Даже несмотря на условия войны, как пишет Д. Хорн, эта идея казалась трудной, но всё же выполнимой. А после окончания Семилетней войны данная идея распространялась всё больше (Horn, 1967: 212). В отечественной историографии идея о создании «Северного аккорда» приписывается российской дипломатии (Миловский, 2022).
Сохранение отношений между Лондоном и Петербургом в годы Семилетней войны Д.Б. Хорн объясняет следующим образом: «Потребность в морских товарах, которые могла поставлять только Россия, и продолжительная зависимость России от её лучшего покупателя оказались сильнее тех политических сил, которые, естественно, стремились разъединить их, пока они участвовали по разные стороны в этой тяжелой и затяжной войне» (Миловский, 2022: 211–212).
Предваряя описание российско-британских отношений при Екатерине II, Д. Хорн говорит, что она лично была «англофилкой» и уделяла большое внимание своему имиджу за границей. Но «давнее представление британцев о Московии как о варварском, неевропейском государстве, которым правит восточный деспот с куда большей, чем обычно, жестокостью, изменилось, но никоим образом не исчезло полностью» (Horn, 1967: 213).
Описывая русско-английские отношения XVIII в., Д. Хорн ссылается на работу Дж. Чал-мерса2, хотя и указывает, что большинство данных издания взяты из отчета Ч. Уитворта3 «Состояние торговли» (State of Trade). Д. Хорн приводит динамику развития торговли между обеими странами, структуру русско-английской торговли, указывая, что огромный дисбаланс в пользу Роcсии в 1772 г., который составлял 964 968 ф. ст., подчеркивает значимость импортируемых из России товаров (Horn, 1967: 215). В целом данные и оценки, представленные Д. Хор-ном, совпадают с выводами отечественных историков.
Далее в главе описываются основные события дипломатических отношений между Лондоном и Петербургом в правление Екатерины II. Отчасти эти факты и оценки уже высказывались британским историком в его предыдущих работах (Медведев, 2020а; 2020б; 2023; Horn, 1932; 1944).
Д. Хорн отмечает, что первая русско-турецкая война существенно улучшила отношения между странами, поскольку русские победы ослабили союзника Франции – Турцию, а помощь
Британии была очень ценна для перевода русских эскадр из Балтики в Средиземное море (Horn, 1967: 212).
Причины безуспешности российско-британских переговоров о политическом и военном союзе в 60–70 гг. XVIII в. Д. Хорн объясняет тем, что «на протяжении всей войны (за независимость – Ю.М.) британская дипломатия по отношению к России показала те дефекты, которые характеризуют её на протяжении всего XVIII столетия – нехватку реализма и понимания чужой точки зрения. Сменяющие друг друга госсекретари выдвигали одно нереалистичное предложение за другим: за предложением Менорки в 1780 г. последовало предложение напасть на Менорку или попытаться основать колонию в Южной Америке. И это в то время, когда Екатерина прилагала все силы, чтобы обезопасить Крым... Никто из госсекретарей никогда не пытался поставить себя на место екатерининских министров и оценить ситуацию с противоположной стороны круглого стола дипломатии» (Horn, 1967: 220).
Только под давлением идущей войны в 1779 г. Стормонт пообещал помощь в случае возможного военного конфликта с Турцией в обмен на помощь против коалиции европейских государств. Но и это, по словам Д. Хорна, «было неприемлемо для России, так как ее призывали принять участие в уже идущей войне в обмен на помощь в войне, которая ещё даже не началась» (Horn, 1967: 218).
«Чем слабее становилась позиция Британии на суше и на море, тем менее вероятно, что Екатерина вступила бы в войну, чтобы таскать каштаны из огня для Британии» (Horn, 1967: 219). Однако Д. Хорн указывает, что «лично она (Екатерина) дружелюбно относилась к Британии. Она высказывала и действительно чувствовала удовлетворение теми успехами, о которых Малмс-бери1 мог ей рассказать. Последнее, что она хотела видеть, – это полный разгром Британии и превращение её во второстепенную европейскую державу» (Horn, 1967: 219).
Д. Хорн считает важным моментом в отношениях между Лондоном и Петербургом создание Декларации вооруженного нейтралитета: «Вооруженный нейтралитет можно рассматривать как поворотный момент в русско-английских экономических отношениях в той же степени, что и в политических. Он (нейтралитет) был основан не только на личном тщеславии и политических амбициях Екатерины, но и на растущем в России недовольстве тем, что Британия душит российскую внешнюю торговлю» (Horn, 1967: 219–220). От принятия диктуемых Россией принципов вооруженного нейтралитета Британию спасло то, что Россия была всецело занята Крымом» (Horn, 1967: 221).
«В то время как отношение Британии к России претерпело фундаментальные изменения в 1780-е гг., отношение России к Британии осталось в основном неизменным. Россия, как и в предыдущие десятилетия, продолжала сопротивляться тому, что Британия претендовала на дипломатическое лидерство, на превосходящее положение в политике и культуре и экономическое превосходство», – резюмирует историк (Horn, 1967: 221).
Говоря об отношениях России и Британии в годы борьбы с революционной Францией, Д. Хорн пишет следующее: «Доминирующее отношение Британии к России колебалось так же сильно, как и внешняя политика России. Когда надеялись получить помощь или поддерживать ан-тифранцузскую активность, использовался прежний аргумент, что Россия являлась “естественным союзником” Британии. А когда России не хватало понимания её собственных интересов, и она выходила из борьбы с Францией или даже более того – объединялась с Францией, то тут, естественно, наблюдался кардинальный переворот в отношении [к России]» (Horn, 1967: 223).
В конце главы Д. Хорн делает переход к продолжению исследований российско-британских отношений, но уже в XIX в.: «Для Британии и России причины для взаимной подозрительности и враждебности стали выходить на первый план, когда они стали трансформироваться из Европейских Великих Держав в Мировые Великие Державы» (Horn, 1967: 232–233).
Монография Д.Б. Хорна «Великобритания и Европа в XVIII веке» является не только итогом исследований истории дипломатических отношений в Европе XVIII в., но и показывает определённую эволюцию в подходах к её изучению. Так, историк впервые рассматривает не только сугубо дипломатические, но и экономические отношения между Великобританией и Россией, которые оказывали значительное влияние и на дипломатические отношения между обеими странами.
То, что в работе практически отсутствует исследование периода правления Елизаветы Петровны и дипломатической революции, к которой неоднократно обращались отечественные историки, на наш взгляд, можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, данный период является наименее исследованным; во-вторых, часть этого периода уже была рассмотрена в его работе о Ч. Уильямсе (Horn, 1930).
Необходимо отметить, что в данной монографии Д. Хорн изменил свою оценку причин дипломатической революции, перекладывая ответственность за нее с британского руководства на
Россию и Австрию. В оценках же российско-британских отношений времён правления Екатерины Великой Д.Б. Хорн достаточно критичен, возлагая ответственность за неудачи в переговорах между Лондоном и Петербургом на непонимание британской стороной российских интересов.
Тем не менее, несмотря на более чем полувековой срок со дня издания монографии, она представляет собой значительный интерес для исследователей международных и дипломатических отношений XVIII столетия.
Список литературы Российско-британские отношения XVIII века в трудах Дэвида Бейна Хорна (часть 4)
- Анисимов М.Ю. Семилетняя война и российская дипломатия в 1756–1763 гг. М., 2014. 571 с.
- Анисимов М.Ю. Российская дипломатия и Семилетняя война. М., 2021. 881 с.
- Медведев Ю.С. Российско-британские отношения в трудах Дэвида Бейна Хорна (часть 1) // Общество: философия, история, культура. 2020а. № 7. С. 61–70. https://doi.org/10.24158/fik.2020.7.10.
- Медведев Ю.С. Российско-британские отношения в трудах Дэвида Бейна Хорна (часть 2) // Общество: философия, история, культура. 2020б. № 11. С. 62–67.
- Медведев Ю.С. Российско-британские отношения в трудах Дэвида Бейна Хорна (часть 3) // Общество: философия, история, культура. 2023, № 9. С. 128–134. https://doi.org/10.24158/fik.2023.9.18.
- Миловский Н.М. «Северная система» как вектор внешней политики России в 1764–1774 г. В трудах отечественных исследователей // Вестник Государственного университета просвещения. Серия: История и политические науки. 2022. № 3. С. 104–112. https://doi.org/10.18384/2310-676X-2022-3-104-112.
- Сарычев В.Г. Роль русского металла в экономике Англии в XVIII веке // Сб. науч. работ. Б.м., 1955. № 8. С. 120–131.
- Сарычев В.Г. Русские кораблестроительные материалы в экономике Англии XVIII века // Сб. науч. работ. Б.м., 1958. № 14. С. 102–123.
- Яковлев Н.Н. Европа Накануне Семилетней войны. М., 1997. 149 с.
- Яковлев Н.Н. Британия и Европа. М., 2000. 297 с.
- Horn D.B. Sir Charles Hanbury Williams and European Diplomacy. London. 1930. 314 р.
- Horn D.B. British Diplomatic Representatives. 1689–1789. London. 1932. VIII, 178 р.
- Horn D.B. Scottish Diplomatists. 1689–1789. London. 1944. 18 р.
- Horn D.B. British Diplomatic Service. 1689–1789. Oxford. 1961. XV. 324 p.
- Horn D.B. Great Britain and Europe in the 18th century. Oxford. 1967. 411 p.
- Lindsay J.O. The New Cambridge Modern History. Vol. VII. The Old Regime, 1713–1763. Cambridge, 1957. 646 p.
- Shprygova M.N. The American War of Independence as treated by N.I. Novikov’s Moscow Gazette // Russian Studies in History. 1962. Vol. 1, no. 1. P. 51–62. https://doi.org/10.2753/rsh1061-1983010151.