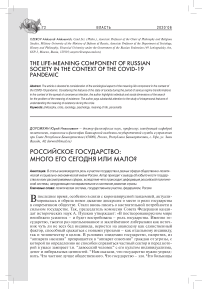Российское государство: много его сегодня или мало?
Автор: Дорожкин Юрий Николаевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Обустройство России: вызовы и риски
Статья в выпуске: 6, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется роль и участие государства в разных сферах общественно-политической и социально-экономической жизни России. Автор приходит к выводу об избыточности государства во всех рассматриваемых сферах, вследствие чего происходит деформация российской политической системы, затрудняющая последовательное и системное развитие страны.
Политическая система, государственное участие, федерализм, Россия
Короткий адрес: https://sciup.org/170171277
IDR: 170171277 | DOI: 10.31171/vlast.v28i6.7719
Текст научной статьи Российское государство: много его сегодня или мало?
В последнее время, особенно в связи с коронавирусной пандемией, актуализировалась и обрела новое дыхание дискуссия о месте и роли государства в современном обществе. Стали вновь писать о настоятельной потребности в сильном государстве. Так, председатель комиссии Совета Федерации кандидат исторических наук А. Пушков утверждает: «В посткоронавирусном мире неизбежно усилится – и будет востребована – роль государства. Именно государство, тысячи раз ошельмованное и заклейменное либералами как источник чуть ли не всех бед индивида, вернется на авансцену как единственный фактор, способный сражаться с новыми угрозами – как отдельному индивиду, так и человечеству в целом. В условиях эпидемии государство, напротив, из “аппарата насилия” превращается в “аппарат спасения” граждан от угрозы, с которой по определению не способен справиться частный сектор и перед которой в ужасе замирает т.н. “давосский человек” с его культом индивидуализма, денег и либеральных ценностей. “Нам сказали, что государство нужно упразднить. Что частное лучше общественного. Что государство – зло. Что больницы нужно закрыть по экономическим соображениям, – пишет итальянский философ Диего Фузаро. – Однако одного вируса оказалось достаточно, чтобы продемонстрировать лживость неолиберализма”»1. Далее Пушков продолжает: «Именно государство способно обеспечить функционирование необходимой медицинской инфраструктуры и системы экспертных оценок в сочетании с некоторыми принудительными мерами, включая введение карантина или чрезвычайной ситуации, с целью ограничить масштабы эпидемии, снизить до минимума число ее жертв и обеспечить условия для ее постепенного преодоления. В условиях пандемии чрезвычайная ситуация была введена в Италии, Испании, Германии, Франции, Чехии, Швейцарии и еще десяти странах Европы. Сделать это могло только государство»2.
Трудно не согласиться с автором относительно необходимости жесткого контроля государства за эпидемиологической обстановкой в своих национальных границах. Это его обязанность. В то же время очевидно, что ни одно из вышеперечисленных государств не оказалось готовым к пандемии, не прияло своевременные и адекватные меры для предотвращения и минимизации последствий коронавируса, хотя национальные государства не только способны, но и должны принимать такого рода меры. Недостаточность таких мер как в части обеспечения государством защиты граждан и врачей в период эпидемии, так и сохранения экономики не смогли укрепить доверие населения к государству, о чем свидетельствуют недовольство и протесты против карательных санкций за нарушение карантина при слабой социальной поддержке. Сдвиг в общественном сознании в пользу «сильного» государства не произошел. Скорее наоборот, вера в могущество государства пошатнулась, ибо обострилась тема качества современного государства и государственной политики, прогнозной и административной функции государства, моральной ответственности должностных лиц, принимающих решения в форс-мажорных обстоятельствах. И снова возникает вопрос: «А что такое сильное государство, в чем его сила, и где границы вмешательства государства в дела общества?»
Что касается России, то проблема роли государства обозначается много шире – как избыточность государства в определенных сферах общества в силу авторитарной ориентированности российской политической системы.
Избыточность государства проявляется в экономике в следующем:
– наличие широкого госсектора (госкорпорации и компании с госучастием – 60%, частный сектор – 20%)3;
– практически все отрасли общественного производства базируются на госбюджетном финансировании;
– частных инвестиций российского и иностранного капитала в реальную экономику, медицину, образование, социальную сферу, инфраструктуру явно недостаточно;
– суженность рыночной экономической свободы, слабая защищенность и отсутствие твердых гарантий частной собственности ввиду чрезмерного огосударствления экономики, недостаточная поддержка малого и среднего предпринимательства, а главное – искаженные взаимоотношения между правоохранительными органами и бизнесом, когда часто «силовики» не столько борются с коррупцией, очищают экономику от криминала, сколько прибирают его «под себя», «отжимают» чужие активы, используя свое служебное положение4.
В социальной сфере логично говорить о неоправданно высоком государственном патернализме, когда государство декларирует широкий круг обязательств в сфере социальной политики, но ввиду низкой ресурсной базы не предлагает достойное их обеспечение и равные возможности в получении доступа к медицине, образованию и всему, что для человека жизненно важно. При этом государство не прилагает чрезмерные усилия для роста высокотехнологичных и высокооплачиваемых рабочих мест, что позволило бы населению увеличить свои доходы и тем самым самостоятельно, по своему усмотрению оплачивать собственные расходы на качественное питание, образование, лечение, а не рассчитывать на социальную помощь государства. Наконец, следует иметь в виду, что государство чрезвычайно внимательно следит за ростом зарплаты и социальных гарантий работников силовых органов (военные, работники спецслужб, прокуратуры, Следственного комитета, МВД, судов и т.д.), выделяя гораздо большую долю госбюджета им, нежели врачам, педагогам, музейным работникам, служащим и библиотекарям. Такая непропорциональность распределения бюджетных средств относится к области социальной справедливости и ответственности государства. Не случайно социологи констатируют доминирование запроса не на сильную власть (7%), а на справедливость (80%), на равенство всех перед законом, на сильное государство, заботящееся о своих гражданах1.
В духовно-культурной сфере избыточное присутствие российского государства отчетливо просматривается в сверхпристальном внимании власти к вещанию федеральных каналов (Первый канал, Россия, НТВ), а контроль региональных властей над своими СМИ еще более жесткий; в финансовом и кадровом регулировании деятельности театров, кинотеатров, музеев федеральным и региональными министерствами культуры. Однако Россия катастрофически отстает от развитых стран по числу учреждений культуры и досуга, состоянию памятников истории и культуры, объектов культурного наследия регионального и местного значения, что свидетельствует об остаточном принципе финансирования, внимания и управленческих действий2.
Избыточность государственной политики – это во многом следствие установки на то, что прогресс везде и всюду должен проистекать исключительно «сверху» в силу активности, жесткого регулирования и контроля со стороны власти, без учета самодеятельности «снизу». Многие креативные инициативы не получают развития не столько из-за недостатка поддержки от государства, сколько из-за излишнего и не всегда адекватного его вмешательства в дела гражданского общества. Государство, признавая собственную избыточность, тем не менее, наращивает свои сугубо регулятивные, порой бесполезные, а то и вредные усилия3.
Избыточность государства в вышеуказанных сферах упирается в системную деформированность российской политической системы. Эта деформирован-ность проявляется как в структурном и функциональном дисбалансе внутри самого государства, так и в его взаимоотношениях и взаимодействии с гражданским обществом, отдельными гражданами. Сегодня неоспоримы следующие факты политико-режимного характера:
– нарушение принципа разделения властей в пользу исполнительной ветви, чрезмерно высокая роль президента России, глав регионов и администраций муниципальных образований в ущерб компетенции и полномочиям предста- вительной и судебной власти, что практически приводит к слому системы сдержек и противовесов в единой (целостной) структуре власти;
– сдерживание правящей элитой становления и реализации принципов правового государства, верховенства закона, приоритета прав и свобод граждан;
– стремление государства по-прежнему оставаться «выше» гражданского общества, что приводит к замещению государством институтов гражданского общества (политические партии, профсоюзы, молодежные общественно-политические организации), недемократическому и ненужному контролю их формирования и деятельности;
– «зажим» динамики демократизации политической системы, где государство скорее ограничивает, чем создает законодательные и политико-режимные условия для открытости власти, ее обратной связи, гарантируя тем самым реализацию прав и свобод граждан, расширение их политического участия, развитие демократического процесса и общественных инициатив, низовой актив-ности1;
– унитаризация формально федеративного устройства российского государства в силу «вертикализации» власти, чрезмерного политического, экономического и кадрового вмешательства федерального центра (конституционно не закрепленного) в компетенции субъектов федерации, что влечет за собой не только извращение природы федерализма, ущемление самостоятельности регионов, но и стагнацию территории, снижение ответственности глав регионов перед населением, укрепление авторитаризма и торможение демократических перемен.
Каковы детерминанты избыточного присутствия государства, прежде всего исполнительной власти, в жизни общества? Ключевой фактор – приход и закрепление во власти в силу известных исторических причин той части российской политической элиты, которая выстраивает политическую стратегию и тактику развития России в соответствии со своими интересами и представлениями о настоящем и будущем страны. Мировоззренческая ограниченность правящей элиты сопрягается с боязнью перемен и неготовностью к реальным реформам, что объясняет политический курс на абсолютизацию идеи стабильности в ущерб идее развития. Во многом это объясняет нежелание и неспособность правящего класса демонтировать полностью и окончательно тоталитарное прошлое, приверженность авторитарному правлению, реальное ослабление представительной и судебной власти, их несамостоятельность и зависимость от власти исполнительной. Отмеченное выше стало возможным из-за, во-первых, неразвитости российской партийной системы и самого института партий как политической силы, укорененной в соответствующих слоях общества, представляющих их интересы и формирующих институты государственной власти, во-вторых, из-за отсутствия реальной политической конкуренции, равных условий для всех политических партий в борьбе за власть, слабости общественно значимой оппозиции, способной заменить в ходе свободных конкурентных выборов действующую политическую элиту; в третьих, из-за несменяемости власти по причине патерналистского сознания, подданнической политической культуры большинства населения, которая пока не замещена гражданской активистской культурой и подпитывается исторически сформированным страхом перед властью, принудительно-правовым и медийно-манипулятивным контролем государства над общественными умонастроениями и поведенческими моделями.
Таким образом, в России сложилась конструкция государства существенно закрытого, зарегулированного, с чрезмерной централизацией и персонификацией власти на основе политической, экономической, социальной и духовной несвободы и государственного патернализма. Сила государства стала измеряться не уровнем экономического, социального и культурного развития, высоким профессионализмом и качеством государственного менеджмента, раскрепощением творческой энергии и духовной свободы граждан, а степенью государственного контроля, прежде всего с опорой на силовые структуры и массовые медиа, за всеми общественно значимыми процессами и общественным сознанием под предлогом возрождения геополитического величия России, безальтернативности статуса России как осажденной крепости и необходимости всеобщей консолидации в этих условиях вокруг федерального центра.
Произошло закономерное смещение акцентов в деятельности государства с его созидательных функций (экономика, социальная защита, образование, здравоохранение) на запретительно-принудительную регламентацию, что спровоцировало торможение российской экономики, падение уровня доходов населения, рост бюрократизации власти при принятии и реализации решений, подмену квалифицированного администрирования повышенной активностью прокуратуры и следственного комитета, вялую реакцию госорганов на сигналы «снизу» – они начинают шевелиться только после указаний и поручений президента России или массового протестного давления граждан; снижение доверия ко всем институтам власти при ухудшении общественной атмосферы инновационного развития и созидательной креативности.
Итак, российское государство сегодня амбивалентно. С одной стороны, оно является недостаточно развитым (сильным) с точки зрения экономической продвинутости, обеспечения социальной справедливости и достойного благосостояния населения, его духовно-культурного возвышения, предоставления и гарантирования гражданских и политических прав, защиты жизни людей, собственности и свобод. А это одна из важнейших функций государства. С другой стороны, государство избыточно в экономике, государственном патернализме, «вертикализации» самой власти, регулировании сферы гражданского общества, прав и свобод граждан, укреплении силового компонента структуры государства. Российская власть все еще сильна в сохранении политической стабильности, но ее нельзя считать сильной с точки зрения эффективности управления экономическими, социальными и духовно-культурными процессами.
Такое государство вряд ли можно считать сильным, ибо сильное государство – это не только и не столько эффективное насилие, запреты и санкции, а скорее государство, которое создает все условия для раскрепощения энергии тех, кто нацелен на созидание, государство, которое расширяет самостоятельность и инициативу институтов гражданского общества, не мешает экономической и политической конкуренции. Гарантировать свободу возможно только путем обеспечения конкуренции как в экономической, так и в политической сфере. Для защиты конкуренции необходима сильная и компетентная власть1. В XXI в. востребована не столько сила принуждения государства, сколько сила интеллекта, созидательные ресурсы государства; только такую власть можно считать высококачественной [Тоффлер 2003: 36-37]. Критерий сильного государства – его эффективность в решении указанных выше задач, которая зависит от его структуры, качества политического менеджмента, границ и характера его компетенции, демократического контроля за исполнительной властью со стороны парламента, судов, независимых СМИ и самих граждан.
Политическим механизмом и драйвером формирования сильного государства в России, демократического обновления политической системы, преодоления избыточности государства и деформированности власти, защиты ее от авторитаризма, стагнации и неэффективности, отрыва от общества может и должна стать сменяемость власти на основе политической конкуренции в ходе свободных, равных и честных выборов.
России нужны политические реформы, демократизация политического режима, другое качество политической элиты и смена ее на всех уровнях и во всех ветвях власти на лиц, способных и готовых работать в рамках демократического, правового, федеративного и рыночного государства.
Разумеется, организующая и мобилизующая роль государства возрастает и усиливается в условиях экономического кризиса, природных и техногенных катастроф, режима чрезвычайной ситуации в стране. Однако и в этих случаях нельзя говорить об уязвимости демократий и эффективности авторитарных систем1. Созданию действительно сильного государства в России несомненно способствовали бы дискуссии в экспертном и бизнес-сообществе, широких общественных кругах о формате и масштабе актуальной регулирующей роли государства, дискуссии, нацеленные на поиск рационального объяснения этой роли государства, учет позитивных и негативных последствий в настоящем и будущем. На наш взгляд, такого рода дискуссии могли бы иметь своим результатом пробуждение все еще «спящего» российского гражданского общества, конвертацию интересов разных социальных групп в самостоятельную и осознанную позицию на выборах в органы власти, восприятие большинством граждан государственных руководителей самого высокого уровня как всего лишь выборных политических менеджеров, направленных народом во власть и не имеющих права ее превышать под тем или иным благовидным предлогом.
Список литературы Российское государство: много его сегодня или мало?
- Тоффлер Э. 2003. Метаморфозы власти. М.: ACT. 155 с