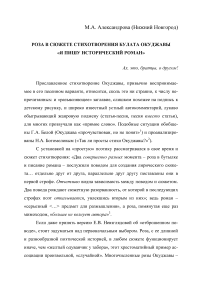Роза в сюжете стихотворения Булата Окуджавы «Я пишу исторический роман»
Автор: Александрова Мария Александровна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Статья в выпуске: 2 (3), 2006 года.
Бесплатный доступ
Лирический сюжет, мотивная структура, роза, булат окуджава
Короткий адрес: https://sciup.org/14914020
IDR: 14914020
Текст статьи Роза в сюжете стихотворения Булата Окуджавы «Я пишу исторический роман»
Если даже принять версию Е.В. Невзглядовой об «отброшенном поводе», стоит задуматься над первоначальным выбором. Роза, с ее длинной и разнообразной поэтической историей, в любом сюжете функционирует иначе, чем «желтый одуванчик у забора», этот хрестоматийный пример ассоциации произвольной, «случайной». Многочисленные розы Окуджавы – прежде всего метафоры, отсылающие к первообразам в литературе XIX века: «[Г]улял я молодой… пылали розы, гордые собою», «В час, когда распускаются розы… Заледенела роза и облетела вся», «[Т]о пепел, то кровь, а то слезы – житейская наша река. / Лишь редкие красные розы ее украшают слегка»4 и др. В интересующем нас тексте роза и вещественна и метафорична. Предметная деталь, соседствующая с розой («В склянке темного стекла / из-под импортного пива», 355), объективно «низкая»: ею представлен даже не быт как таковой, но претенциозно-пошловатая «эстетика дефицита» в стиле 70-х годов. Тем не менее «роза очень хорошо себя чувствует в бутылке»5. Может ли этот изящно-острый парадокс быть «отдельным», не предназначенным участвовать в развитии поэтической мысли?
А. Архангельский мотивировал стилевой оксюморон задачей обновления романсовой поэтики: сегодня «жанр-идеалист» «вынужден рядиться в насмешливые одежды, чтобы выжить», однако в исповедальном стихотворении-песне «возвышенность чувства и бытовая привычность образов зазвучали в странной гармонии; оказалось, можно всерьез говорить об идеальном, которое заключено в обыденном»6. Конечно, роза сама по себе ассоциируется и с романсом, и с «романом на старый лад», которые определили, по распространенному мнению, своеобразие прозы поэта (отсюда вольная контаминация А. Латыниной: «исторический романс»). Но место розы в сюжете «наивного» жанра было предметом авторской иронии: «Я горой за сюжетную прозу, / за красотку, что высадит розу / под окошком у самых дверей. <…> А потом появляется некто / неизвестно зачем, почему. / Выбрав время, и место, и позу, / наша барышня красную розу, / розу красную дарит ему…» (379). Соответственно интонирован парафраз знаменитой элегической строки И. Мятлева «Как хороши, как свежи были розы» в «Путешествии дилетантов». Сначала исходный образ буквализиро-ван и преувеличен в своей вещественности («…в левом кулаке громадная красная роза, свесившая головку без половины лепестков»; «Позабытая ободранная роза терлась о дверцу кареты и теряла последние лепестки», «У поручика в кулаке была зажата красная, обтрепанная, потерявшая почти все лепестки роза…»), а затем вновь превращен в ироническую условность: «Однажды, еще в ту благословенную пору, когда мои собственные надежды были свежее майских роз…»7. Очевидно, отмеченная А. Архангельским идеальность розы восходит к иному источнику. Указывает на него сопряжение «повода» (сохраним пока это обозначение) и сюжета, излагающего движение романа «от пролога к эпилогу», словом, тема творчества.
Лирика пушкинской поры любила оксюморонное сочетание северная роза – «цветы северной поэзии», достойные своего античного образца, «греческих свежих цветов»8. Характерен поэтический антураж розы у Батюшкова («К цветам нашего Горация»): « Ни вьюги, ни морозы / Цветов твоих не истребят. / Бог лиры, бог любви и музы мне твердят: / В саду Горация не увядают розы »9 . Пушкинская «загадка Сфинкса» – «Кто на снегах возрастил Феокритовы нежные розы ? / В веке железном , скажи, кто золотой угадал?»10 – обновляет мифологему «века железного», включая ее в актуальный для русской культуры гиперборейский текст11. В границах бинера север – юг «Россия <…> оказывалась тем “благодатным” краем, который, по закону единства противоположностей, был естественным и полноправным последователем блистательных успехов культуры “полуденных стран”»12, и роза у Пушкина – самая естественная, «природная» метафора наследования. Современному поэту заказано подобное мифотворчество, но смысл его оксюморона также состоит в «прививке» розы к новой почве, реалия современного быта выполняет сходную со снегами метонимическую функцию: речь идет, в конечном счете, о творческом преображении бытия.
В эпоху, столь богатую розами, именно Пушкин возвращает условному цветку поэзии образный потенциал: нежность розы Феокрита ощутима в соприкосновении со снегами . Эта свобода в рамках традиции характерна и для стихотворения, которое явилось, по версии Н.О. Лернера, репликой на «Три розы» Веневитинова. Градация образов («роза Кашемира» – алая роза утренней зари – дева-роза) иллюстрирует философский тезис о бренности наиболее прекрасного. Напротив, коллизия красоты и бренности у Пушкина оказывается разрешима в силу того, что поэт непринужденно снимает аллегорическую двуплановость: «Есть роза дивная: она / Пред изумленною Киферой / Цветет, румяна и пышна, / Благословенная Венерой. / Вотще Киферу и Пафос / Мертвит дыхание мороза, / Блестит между минутных роз / Неувядаемая роза…»13. Литературный контекст позволяет догадываться, что неувядаемая роза – творение художника, подарившего земной красоте жизнь нетленную. Но иносказание не подчиняет образную пластику, роза предстает воистину дивной .
«На фоне Пушкина» и создает Окуджава свою скромную розу. Роза красная в бутылке , что пока еще жива , – минутная роза ; но она же цветет гордо и неторопливо , словно из века в век, подобно розе неувядаемой . Образ построен более рационально, нежели у предшественника: понятно, что бессмертием наделяет эту розу человеческое сознание, литературная память. В то же время субъективное отождествление бренности и вечности сообщает общефилософской проблеме неповторимо индивидуальное качество.
«Роза-повод» – опора внутреннего сюжета, столь характерного для поэтики Окуджавы («рассказывая на внешнем плане о чем-то довольно определенном <…> внутри стихотворение ведет речь совсем о другом»14):
В склянке темного стекла из-под импортного пива роза красная цвела гордо и неторопливо. Исторический роман сочинял я понемногу, пробиваясь как в туман от пролога к эпилогу. Были дали голубы, было вымысла в избытке, и из собственной судьбы я выдергивал по нитке.
В путь героев снаряжал, наводил о прошлом справки и поручиком в отставке сам себя воображал.
Синонимия тумана в первой строфе и далей голубых во второй (открытая временн а я перспектива) вместе с розой красной образуют единую метафору молодости: неторопливое цветение розы – параллель к тому чувству бессмертия, которое свойственно началу длинного пути; отсюда и неспешное – понемногу – сочинение романа. Ср. в «Арбатском романсе»: «Бывали дни такие – гулял я молодой, / глаза глядели в небо голубое , / еще был не разменян мой первый золотой, / пылали розы , гордые собою » (318). Заветное «Путешествие дилетантов» получает статус книги жизни, раскрытой на страницах пролога , и анахронизм, конечно, ничуть не мешает символизации биографического «сюжета».
Смену интонации – строго на середине стихотворения – проще всего объяснить внешними обстоятельствами:
Вымысел – не есть обман.
Замысел – еще не точка.
Дайте дописать роман до последнего листочка. И пока еще жива роза красная в бутылке, дайте выкрикнуть слова, что давно лежат в копилке…
Однако новая апелляция к розе красной открывает особый смысл композиционного приема: «Земную жизнь пройдя до половины…». Драматизм переломного состояния выражен гротескным нарушением реальных пропорций: отныне «время романа» стремится к буквальному совпадению со «временем розы», жизнь стремительно ускользает.
Предметом рефлексии автора был, по-видимому, и романтический миф о веке поэта (так, у Дельвига роза, осеняющая могилу юноши, изрекает: « Счастлив , кто прожил, как он, век соловьиный и мой!»15). Об оглядке на старинную традицию свидетельствует, в частности, «высокопарная» метафора одного из стихотворений Окуджавы начала 60-х: « Мгновенно слово. Короток век. / Где ж умещается человек? / Как, и когда, и в какой глуши / распускаются розы его души? / Как умудряется он успеть / свое промолчать и свое пропеть…» (279). Очевиден спор с поэзией «довременного конца»: любой жизненный срок равен мгновению. С другой стороны, носителями бессмертия в мире Окуджавы выступают именно те природные существа, идеальные двойники лирического «я»16, чей век краток – подобно веку розы : «Кричит какой-то соловей / отличных городских кровей, / как мальчик , откровенно: / “Какое счастье – смерти нет! / Есть только тьма и только свет – / всегда попеременно”» (248); «Ну чем тебе потрафить, мой кузнечик? / Едва твой гимн пространства огласит, / прислушаться – он от скорбей излечит, / а вслушаться – из мертвых воскресит » (411) .
Отсюда понятна логика разрешения сюжетной коллизии:
Каждый пишет, как он слышит.
Каждый слышит, как он дышит. Как он дышит, так и пишет, не стараясь угодить… Так природа захотела.
Почему?
Не наше дело.
Для чего?
Не нам судить. (356)
Бессмертие реально и для розы, пребывающей в неведении собственной бренности, и для того, кто достиг забвения в творчестве (ср. в позднем «Отъезде»: «Что ему думать про век свой коротенький ? / Он лишь про музыку, чтоб до конца », 510). Если в прологе художник пытливо всматривался в туман , то в эпилоге все почему , зачем отводятся во имя доверия к жизни. Зато беспечная гордость розы , осенявшая начало пути, откликается в заповеди не стараясь угодить ; воистину, так природа захотела , чтобы красота и поэзия были сами себе целью и оправданием.
Внутренний сюжет («о другом») развивается «по спирали», внешний (о романе) – «линейно»17; их расхождение преодолевается, казалось бы, на стадии финала: «Как он дышит, так и пишет». Впечатление осложняет меланхолический тон последней строфы. Обобщение каждый , предполагающее уверенную позицию я , становится, напротив, формой своеобразной уступки другим , намечается новый виток рефлексии. Интимную драму поэта освещает позднее стихотворение, где подытожен его многолетний «роман с розой»: «Ну а покуда мы жизнь свою тешим / и притворяемся , будто творим , / всё – в лепестках ее неоскудевших: / страсть, и разлука, и вечность, и Рим» (601).
-
1 Белая Г.А. Он не хотел жить с головой, повернутой назад // Булат Окуджава. Спец. вып. [Лит. газ.]. 1997. С. 15.
-
2 Богомолов Н.А . От Пушкина до Кибирова: Статьи о русской литературе, преимущественно о поэзии. М., 2004. С. 413– 414, 420–425.
-
3 Невзглядова Е.В. Повод и сюжет в лирическом стихотворении // Вопросы литературы. 1987. № 5. С. 140–141. Курсив здесь и далее мой – М.А.
-
4 Окуджава Б.Ш. Стихотворения. СПб, 2001. С. 318, 391–392, 409. (Новая библиотека поэта). Далее стихотворные цитаты приводятся по этому изданию с указанием страницы в скобках.
-
5 Архангельский А. «Всё уходящее уходит в будущее»: Судьба классических жанров в современной лирике // Лит. обозрение. 1987. № 3. С. 15.
-
6 Там же.
-
7 Окуджава Б.Ш. Путешествие дилетантов. М., 1980. С. 147, 149, 151, 496.
-
8 Венок русским Каменам: Антологические стихотворения русских поэтов. СПб., 1993. С. 93.
-
9 Батюшков К.Н . Сочинения: В 2 т. Т. I. М., 1989. С. 240.
-
10 Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Изд. 2-е / Под ред. Б.В. Томашевского. М., 1956–1958. Т. III. С. 113.
-
11 В «Странствователе и Домоседе» беспокойный уроженец Афин «за розами побрел – в снега Гипербореев» ( Батюшков К.Н . Указ. соч. С. 249).
-
12 Кошелев В.А. Историософская оппозиция «запад – восток» в творческом сознании Пушкина // Русская литература. 1994. № 4. С. 8.
-
13 Пушкин А.С. Указ. соч. С. 10.
-
14 Богомолов Н.А . Указ. соч. С. 414.
-
15 Венок русским Каменам. С. 95.
-
16 О своеобразии «двойничества» у Окуджавы см.: Бройтман С.Н . «Я» и «другой» в лирике Булата Окуджавы // Булат Окуджава: его круг, его век: Материалы Второй международной научной конференции. 30 ноября – 2 декабря 2001 г., Переделкино. М., 2004. С. 190–195.
-
17 Е.В. Невзглядова пишет о возвращении Окуджавы к «повествовательной манере».
Список литературы Роза в сюжете стихотворения Булата Окуджавы «Я пишу исторический роман»
- Белая Г.А. Он не хотел жить с головой, повернутой назад//Булат Окуджава. Спец. вып. [Лит. газ.]. 1997. С. 15.
- Богомолов Н.А. От Пушкина до Кибирова: Статьи о русской литературе, преимущественно о поэзии. М., 2004. С. 413-414, 420-425.
- Невзглядова Е.В. Повод и сюжет в лирическом стихотворении//Вопросы литературы. 1987. № 5. С. 140-141.
- Окуджава Б.Ш. Стихотворения. СПб, 2001. С. 318, 391-392, 409. (Новая библиотека поэта).
- Архангельский А. «Всё уходящее уходит в будущее»: Судьба классических жанров в современной лирике//Лит. обозрение. 1987. № 3. С. 15.
- Окуджава Б.Ш. Путешествие дилетантов. М., 1980. С. 147, 149, 151, 496.
- Венок русским Каменам: Антологические стихотворения русских поэтов. СПб., 1993. С. 93.
- Батюшков К.Н. Сочинения: В 2 т. Т. I. М., 1989. С. 240.
- Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Изд. 2-е/Под ред. Б.В. Томашевского. М., 1956-1958. Т. III. С. 113.
- Батюшков К.Н. Указ. соч. С. 249.
- Кошелев В.А. Историософская оппозиция «запад -восток» в творческом сознании Пушкина//Русская литература. 1994. № 4. С. 8.
- Пушкин А.С. Указ. соч. С. 10.
- Богомолов Н.А. Указ. соч. С. 414.
- Венок русским Каменам. С. 95.
- Бройтман С.Н. «Я» и «другой» в лирике Булата Окуджавы//Булат Окуджава: его круг, его век: Материалы Второй международной научной конференции. 30 ноября -2 декабря 2001 г., Переделкино. М., 2004. С. 190-195.