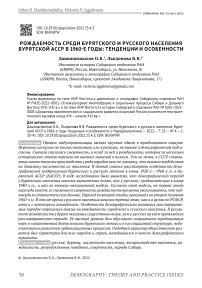Рождаемость среди бурятского и русского населения Бурятской АССР в 1960-е годы: тенденции и особенности
Автор: Дашинамжилов Одон Борисович, Лыгденова Виктория Васильевна
Журнал: Народонаселение @narodonaselenie
Рубрика: Демография: вопросы теории и практики
Статья в выпуске: 4 т.25, 2022 года.
Бесплатный доступ
Процесс индустриализации вызвал крупные сдвиги в традиционном социуме. Перемены коснулись не только экономики или культуры, но также и демографической подсистемы. Сначала снизилась смертность, а вслед за ней и рождаемость, которые за несколько исторических этапов перешли от высоких значений к низким. Тем не менее, в СССР становление нового типа воспроизводства у ряда народов шло по-разному, что оказало воздействие на динамику численности их населения. В данной статье рассмотрены особенности демографической модернизации бурятского и русского этносов в конце 1950-х - 1960-е гг. в Бурятской АССР (БАССР). В ходе исследования было выявлено, что демографический переход у бурятского населения начался значительно позже, чем у русского, приблизительно в конце 1940-х гг., и шёл по японско-мексиканской модели. Согласно этой модели, на первом этапе перехода вместе со снижением смертности рождаемость временно увеличивается, что подтвердили статистические данные. Переход ко второй стадии произошёл во второй половине 1960-х гг. В это же время у русского населения начался третий этап, как и в целом по РСФСР, хотя и с некоторым запозданием. Особенности демографического развития рассматриваемых народов отразились также на рождаемости городского и сельского населения. В результате рождаемость у бурят оказалась существенно выше, чем у русских на всём протяжении рассматриваемого периода. Её высокий уровень был обусловлен сохранением традиционных черт в хозяйственной деятельности бурятского этноса и в его социальной структуре, недостаточным развитием урбанизационных процессов. Подобный характер общественного развития был характерен для всех народов и стран, находившихся в начале демографического транзита.
Русские, буряты, численность населения, воспроизводство населения, рождаемость, репродуктивное поведение, смертность, народы сибири
Короткий адрес: https://sciup.org/143179714
IDR: 143179714 | DOI: 10.19181/population.2022.25.4.3
Текст научной статьи Рождаемость среди бурятского и русского населения Бурятской АССР в 1960-е годы: тенденции и особенности
Процесс индустриализации вызвал крупные сдвиги в традиционном социуме.
Перемены коснулись не только экономики или культуры, но также и демографической подсистемы. Сначала снизилась смертность, а вслед за ней и рождаемость, которые за несколько исторических этапов перешли от высоких значений к низким. Тем не менее, в СССР становление нового типа воспроизводства у ряда народов шло по-разному, что оказало воздействие на динамику численности их населения. В данной статье рассмотрены особенности демографической модернизации бурятского и русского этносов в конце 1950-х — 1960-е гг. в Бурятской АССР (БАССР). В ходе исследования было выявлено, что демографический переход у бурятского населения начался значительно позже, чем у русского, приблизительно в конце 1940-х гг., и шёл по японско-мексиканской модели. Согласно этой модели, на первом этапе перехода вместе со снижением смертности рождаемость временно увеличивается, что подтвердили статистические данные. Переход ко второй стадии произошёл во второй половине 1960-х гг. В это же время у русского населения начался третий этап, как и в целом по РСФСР, хотя и с некоторым запозданием. Особенности демографического развития рассматриваемых народов отразились также на рождаемости городского и сельского населения. В результате рождаемость у бурят оказалась существенно выше, чем у русских на всём протяжении рассматриваемого периода. Её высокий уровень был обусловлен сохранением традиционных черт в хозяйственной деятельности бурятского этноса и в его социальной структуре, недостаточным развитием урбанизационных процессов. Подобный характер общественного развития был характерен для всех народов и стран, находившихся в начале демографического транзита.
лючевые слова:
русские, буряты, численность населения, воспроизводство населения, ро ждаемость, репродуктивное поведение, смертность, народы Сибири.
Процесс индустриализации вызвал крупные сдвиги в традиционном социуме. Перемены коснулись не только экономики или культуры, но также и демографической подсистемы. До этого момента рождаемость и смертность находились на высоком уровне и в целом подчинялись мальтузианскому механизму. Возникновение промышленного общества в корне изменило ситуацию. Если на начальных фазах индустриализации характеристики воспроизводства населения почти не менялись, то с развитием социального обеспечения, повышением культурного уровня, улучшением питания, становлением систем здравоохранения и образования начался процесс демографического перехода. Сначала снизилась смертность, а вслед за ней и рождаемость, которые за несколько исторических этапов перешли от высоких значений к низким. В России становление нового типа воспроизводства у ряда народов шло по-разному, что оказало воздействие на динамику численности их населения. Именно поэтому представляют интерес этнические аспекты демографических перемен в нашей стране.
В существующих работах особенности рождаемости у бурят и русских в 1960е гг. в БАССР исследованы недостаточно. Основной акцент сделан на изучении демографических процессов, происходящих в республике в целом [1; 2]. Этнографическими исследованиями проблем семьи и брака в рассматриваемый период занимались К. Д. Басаева, Ю. Б. Рандалов, К.В. Вяткина [3—5]. Тенденции численности и состава населения анализировались в контексте социальной и индустриальной истории республики [6–8]. Следовательно, к настоящему моменту по-прежнему недостаточно изучена рождаемость в условных поколениях среди бурят и русских, закономерности и факторы её изменения в 1960-е гг. Основными источниками работы являются материалы Всесоюзных переписей населения 1959 и 1970 гг. о национальном, возрастном, образовательном составе населения, его распределении по городским поселениям и сельской местности, а также сведения текущего учёта о рождаемости по возрасту, извлечённые из центральных и региональных архивов и библиотек. В некоторых случаях привлекались сведения из более поздних переписей. Большое значение имели также данные статистических сборников об экономическом и социальном развитии БАССР в 1960-е годы.
Методологической основой работы стала теория демографического перехода. На первом этапе перехода происходит снижение смертности, на втором — начинает уменьшаться рождаемость, причём темпы сокращения смертности замедляются. На последнем этапе и смертность, и рождаемость снижаются до такой степени, что воспроизводство населения становится сначала простым, а затем суженным, то есть в перспективе возникает угроза депопуляции. Как показывает исторический опыт, демографические переходы в каждой стране происходили с существенными особенностями. Всю их совокупность можно описать с помощью трёх идеальных моделей: английской (изложена выше), французской, когда смертность и рождаемость снижаются одновременно. Последняя, японско-мексиканская модель, характерна для незападных обществ. В ней рождаемость на первой фазе при сокращении смертности не остается на прежнем уровне как в английском варианте, но на какое-то время увеличивается. В данной статье рассмотрены особенности демографического перехода бурятского и русского этносов в конце 1950х — 1960-е гг. в БАССР. Согласно данным Всесоюзных переписей за 1959 и 1970 гг., общая численность бурят, проживающих на территории республики, увеличилась более чем на 30,0%, тогда как русских — на 18,8%. В этой связи необходимо выяснить роль рождаемости в возникновении таких различий.
В соответствии с предложенной демографами периодизацией, на рубеже 1950-х — 1960-х гг. Россия перешла к третьему этапу демографического перехода, когда новый тип рождаемости, в основном, утвердился в обществе. Суммарный коэффициент рождаемости для всего её населения в 1959 г. составил 2,626 ребёнка на одну женщину. Согласно нашим данным, в 1959 гг. его величина у бурят БАССР была существенно выше — 5,067, тогда как у русских республики — 3,380 [9, с. 187]. Аналогичные, как у бурятского населения, показатели в РСФСР наблюдались в последний раз в конце 1920х — начале 1930-х гг. [10, с. 157]
Высокий уровень рождаемости был напрямую связан с сохранением традиционных черт в хозяйственной деятельности бурятского этноса, с его социальной структурой. Так, например, по уровню развития урбанизационных процессов бурятское население заметно уступало русскому, предпочитая сельский образ жизни. Если в городских поселениях Бурятской АССР в 1959 г. проживала почти половина русских — 46,9%, то среди бурят — только 16,6%. Как показывали многочисленные исследования демографов, в городских поселениях рождаемость была существенно ниже, чем в сельской местности (См. напр.: [11]).
Материалы Всесоюзной переписи 1959 г. показывают, что основными хозяйственными единицами, в которых работали буряты, были колхозы, которые являлись, всё-таки, более отсталой формой организации сельскохозяйственного производства, в сравнении с совхозами, где рабочие имели гарантированную заработную плату, пенсионное обеспечение, были меньше прикреплены к «земле». Еще в советское время обнаружено, что самая низкая рождаемость была среди служащих, более высокая — у рабочих, и самая высокая — среди колхозников. Напри -мер, В. А. Борисов отмечал, что социально-классовая дифференциация косвенно указывала на различия в условиях жизни, уровне доходов, культуре и образовании, которые отражались на уровне рождаемости [12, с. 116]. Если среди русских БАССР доля колхозников составляла всего 21,7%, то среди бурят — больше половины — 57,0%. При этом, несмотря на относительно высокий удельный вес рабочих у бурят, значительную их часть составляли работники совхозов, которые по своему репродуктивному поведению были ближе к колхозникам, чем к труженикам промышленности или транспорта.
Удельный вес работников промышленных предприятий у бурят тоже был невелик. Среди русских доля занятых в индустриальном производстве составляла 28,5%, в строительстве — 9,0%, транспорте и связи —10,1%, сельском и лесном хозяйстве —только 24,9%. Среди бурят удельный вес работников промышленности и строительства был в три раза ниже (9,2% и 3,0%), в пять раз ниже — в транспорте и связи (2,1%). При этом в сельском и лесном хозяйстве трудилось 64,1% от всего занятого населения. Подобная структура распределения занятых по отраслям народного хозяйства тоже являлась условием сохранения высокой рождаемости.
Важным фактором, оказывающим воздействие на репродуктивное поведение, всегда был уровень образования. Как подчёркивает Г. А. Бондарская с его повышением происходит изменение структуры потребностей [13]. Среди них всё большее значение приобретают материальные и духовные ценности. С ростом культуры, наилучшим выражением которого является образовательный уровень, повышаются требования к уходу за детьми и их воспитанию, и, следовательно, увеличивается время, затрачиваемое на эти цели. Изменение структуры потребностей в пользу внесемейных приводит к снижению рождаемости. Как показывают социологические исследования, самый низкий её уровень наблюдался у лиц с высшим и незаконченным высшим образованием, а самый высокий — с начальным и ниже.
По данным Всесоюзной переписи 1959 г., уровень образования среди бурят оказался достаточно высоким. Так, в БАССР на каждую тысячу человек приходилось 46 — с высшим, незаконченным высшим и средним специальным образованием, 30 — со средним общим, 119 — семилетним и 178 — с начальным; у русских несколько выше — соответственно
52, 28, 147, 242 1 . Однако важно отметить, что дифференцирующее влияние образования в сельской местности было ниже, чем в городских поселениях. Обычно обретение среднего или среднего специального образования сопровождалось выездом молодежи за пределы сельской местности. Условия жизни в городе оказывали сильное воздействие на взгляды людей на брак и семью. В союзных республиках европейской части СССР молодое население со средним образованием являлось потенциальными мигрантами в города. Это влияло на его репродуктивные установки, которые серьезно корректировались в сторону снижения.
В то же время у национальностей, находящихся на ранних этапах демографического перехода ситуация складывалась несколько иначе. Возьмём для примера некоторые народы Средней Азии, которые по характеру своего исторического развития имели много общего с бурятским населением, особенно казахи и киргизы. Как показывают проведенные там специальные исследования, если образованные люди оставались на селе, то это не становилось для них стимулом для серьёзного снижения репродуктивных установок, так как уклад жизни оставался прежним. Модель многодетной семьи оставалась предпочтительной даже для наиболее образованных женщин, хотя у них её величина в среднем была меньше [13, с. 78–80]. Эти выводы справедливы и для бурятского населения, которое в основной массе продолжало оставаться сельским. Ориентация на традиционные виды хозяйственной деятельности, нежелание покидать привычные условия жизни и адаптироваться к городской среде, которая существенно отличалась по образу жизни и языку, тормозили миграцию в города.
Большой интерес представляют различия городских и сельских поселений — обычно в городах и посёлках городского
¹ Национальности РСФСР (Распределение по общественным группам, отраслям народного хозяйства, уровню образования, состоянию в браке и размеру семьи). По данным Всесоюзной переписи населения на 15 января 1959 года (ДСП).— Москва, 1961.— С. 239.
типа рождаемость заметно ниже. В них доминируют другие представления о семейной жизни, брачные отношения отличаются демократичностью, а женщины обладают более высоким социальным статусом. В то же время в сельской местности женщины раньше выходят замуж, реже разводятся, модель малодетной семьи распространена значительно меньше. Кроме того, низкая плотность населения, преобладание односемейных домов, сезонность работы и её близость к месту жительства, занятость в приусадебном хозяйстве облегчали воспитание детей. Значительная часть продуктов питания поступала из подсобного хозяйства, следовательно, рождение ещё одного ребенка не являлось серьёзным материальным бременем [14, с. 129]. Кроме того, ребёнок уже с детских лет активно участвовал в домашних работах: заготовках сена и дров, выпасе скота, сборах урожая, присматривал за младшими братьями и сёстрами, то есть являлся потенциальным работником, приносящим определённую пользу. Приобщение к труду в бурятских семьях начиналось с семи — восьми лет. Этого, например, нельзя сказать о городских детях, которые в большей степени являлись «потребителями благ», особенно в крупных городских центрах.
На рубеже 1950-х — 1960-х гг. ещё были национальности, у которых показатели рождаемости и в городах, и в сельской местности были высокими, отличаясь незначительно (туркмены, таджики, даргинцы, аварцы, узбеки). Следовательно, среди них ограничение числа детей в семьях ещё не получило распространения. У других народов наметился переход к малодетной семье в городских поселениях, но на селе традиционные отношения были ещё сильными (коми, марийцы, удмурты, чуваши). Городской образ жизни, поведение горожан в сфере брачно-семейных отношений ещё не оказали серьёзного воздействия на жителей сельской местности. У таких этносов уровень дифференциации был максимальным. И, наконец, средний уровень различий был характерен для третьей группы национальностей, которые были уже близки к завершению демографического перехода. У них рождаемость на селе падала быстрее, и происходило сближение показателей с городскими поселениями.
Бурятский этнос относился к народам второй группы, тогда как русские — к третьей. Снижению рождаемости в городах способствовали исторически длительные взаимные контакты. Они способствовали быстрому исчезновению модели традиционной многодетной семьи. Расчёты суммарного коэффициента рождаемости показывают, что у бурят в городских поселениях БАССР в 1959 г. он был существенно ниже, чем в сельской местности (3,013 и 5,659). Уровень различий у русских был меньше (2,610 и 4,160). Рождаемость у городских бурят была ещё достаточно высокой. С одной стороны, они находились под сильным влиянием городских условий жизни и иной социокультурной среды, с другой, поддерживали тесные контакты с родственниками и друзьями, оставшимися на селе. Эти личные связи способствовали сохранению традиционных репродуктивных установок. Поэтому они имели больше детей, чем основная часть горожан, но меньше, чем их сельские сверстники. В определённой мере это относилось и к русскому населению, хотя и не в такой степени, так как у них было гораздо больше горожан во втором поколении, уже меньше связанных с селом.
Всесоюзные переписи 1979 и 1989 гг. с данными о количестве рождённых детей у женщин разных национальностей указывают на то, что в 1950-е — начале 1960-х гг. у бурят произошёл примерно 25–30%-й рост рождаемости в сравнении с довоенным десятилетием. Подобная динамика была обнаружена и у других народов СССР, например, у казахов, калмыков, алтайцев, дагестанцев. В то время как у русских, украинцев, белорусов, литовцев, латышей, эстонцев рождаемость последовательно уменьшалась2. Это косвенно указывает на японско-мексиканскую модель демографического перехода, где при сокращении смертности рождаемость не остается на прежнем уровне, как в случае с английским вариантом, а на некоторое время увеличивается.
Такое развитие событий подтверждают сведения о возрастной структуре бурятского населения по одногодичным группам, где очевиден рост численности детей. Так, в 1959 г. в БАССР насчитывалось 3,2 тыс. 9-летних детей, 4,3 тыс. 4-летних, и почти 5,0 тыс. детей в возрасте до одного года (то есть недавно родившихся) при том, что количество женщин в активном репродуктивном возрасте за это время увеличилось намного меньше. Произошёл более чем полуторакратный рост числа рождений, тогда как у русского населения — только на 16,3%. На повышение количества детей в бурятских семьях указывали и советские этнографы, например, Ю. Б. Рандалов, заметивший, что «современные семьи по сравнению со старыми, дореволюционными, стали более многочисленными» [4, с. 128]. Рост рождаемости, судя по возрастной структуре, шёл до 1961 г. включительно, что подтверждают данные об итоговой рождаемости и статистика возрастной структуры бурятского населения, после чего начался быстрый спад, который в то время охватил всё население СССР. Некоторые ученые отмечают, что это снижение вызвано ухудшением возрастной структуры населения, произошедшим в результате войны, однако расчёты по условным поколениям, которые не зависят от структурных факторов, доказывают реальное снижение рождаемости [10].
К 1970 г. суммарный коэффициент рождаемости у бурят снизился до 3,596 детей на одну женщину (на 30,0%), у русских — до 2,237 (на 40,0%). В целом по РСФСР он уменьшился на 24,9% до 1,972. Одним из важных факторов данного сокращения стали масштабные ограничения личных подсобных хозяйств. В 1950-е гг. их роль в аграрном производстве была очень велика и сопоставима с вкладом обществен- ного сектора. Хотя их значение в Восточной Сибири, в том числе и в Бурятии, было меньше, чем, например, в Западной Сибири, тем не менее, они формировали значительную часть семейных доходов [15, c. 78-79]. По мнению М. А. Безнина, хозяйства колхозников нельзя было называть «подсобным», так как по ряду позиций они являлись, по сути, главными производителями [16, c. 110].
Политика по ограничению личных подсобных хозяйств временно нанесла существенный урон по доходам сельских и, частично, городских жителей, так как последние часто тоже имели свои собственные хозяйства. На рубеже 1950-х — 1960х гг. каждая бурятская колхозная семья имела в своём распоряжении в среднем 0,8 га приусадебной земли, одну-две коровы, две-три овцы, пять-шесть кур. Через несколько лет посевные площади личных подворий существенно сократились [17, с. 100-101]. Уменьшение размеров приусадебных участков примерно до 0,3–0,4 га сразу же отразилось на количестве домашних животных, которые семьи могли содержать, и, следовательно, на материальном положении сельских жителей. По официальным данным, производство сельскохозяйственной продукции за несколько лет заметно снизилось, особенно картофеля, овощей и мяса3. Следует отметить, что снабжение продовольствием со стороны колхозов и совхозов часто было неудовлетворительным, что признают даже советские исследователи [4, c.131]. К тому же произошёл рост цен на некоторые виды продуктов питания, что вызвало рост протестных настроений в обществе (Новочеркасские события 1962 г.). Аграрный кризис вынудил советское правительство впервые закупить продовольствие за границей.
Второй важной причиной сокращения рождаемости стало широкое вовлечение женщин в общественное производство. Такое наблюдалось не только в СССР, но и в западных странах. Напри- мер, в 1950-1957 гг. доля работающих замужних женщин в Англии увеличилась с 40,0% до 49,3% [18, c. 11]. Если в США до Второй мировой войны в возрастных когортах 35–44 года и 45–54 года работала ¼ всех женщин, то в середине 1950-х гг. уже примерно ½. Как указывают демографы, у работающих женщин производственные и материнские функции вступали в серьёзное противоречие. Социологические исследования, проведённые в советское время, показали, что общее количество времени на ведение дел у женщин-домохозяек составило примерно восемь часов, тогда как у женщин-работниц — около 10–11. К тому же женщины-домохозяйки проводили время в основном в достаточно комфортных домашних условиях, не зависели от коллег по работе или работодателей, могли гибко подходить к своему трудовому графику. В свою очередь, женщины-работницы часть дел не успевали выполнить, у них возникал хронический дефицит времени, а также физические и нервные перегрузки. Всё это оказывало влияние на их желание и возможности заводить новых детей.
Активное привлечение бурятских и русских женщин в общественное производство началось ещё в довоенный период [19]. В 1960-е гг. после определенного перерыва государственная политика в этом отношении вновь усилилась. При этом быстрый рост женской занятости, как и в 1920-е — 1930-е гг., был во многом вызван искусственно. В результате, она стала одной из самых высоких среди развитых индустриальных стран. За 1960–1970 гг. удельный вес женщин в общей численности рабочих и служащих (без колхозников) в БАССР увеличился сразу с 46,0% до 52,0%, тогда как в предыдущее десятилетие — всего на один процентный пункт4. Если в 1959 г. занятость всего женского населения в Бурятской АССР составляла 35,8%, то спустя 11 лет — уже 41,7%. В то же время у мужчин она практически не менялась (50,4% и 49,5%). В сельской местно-
³ Народное хозяйство Бурятской АССР. Стат. сб.—Улан-Удэ, 1971.— 256 с.—С. 53.
сти занятость женщин повысилась, но несколько меньше, с 34,2% до 37,1%, а мужская даже снизилась с 49,0% до 45,3%. Причём доля женщин, работающих в личных подсобных хозяйствах, во всём населении сократилась особенно сильно — с 5,5% до 0,8%, в том числе в сельской местности с 8,9% до 1,3%. По данным Н. Ц. Буяевой, прирост трудовых ресурсов БАССР в 1960е гг. более, чем на половину (51%) обеспечивался за счёт лиц, работавших в личном и домашнем подсобном хозяйствах [20, с. 81].
При этом занятость бурятского и русского населения республики изменилась по-разному. Среди русских она увеличилась за межпереписной период с 43,1% и 47,2%, тогда как среди бурят сохранилась на прежнем уровне (37,8% и 37,0%). Это объясняется многочисленностью семей, не позволявшей бурятским женщинам активно вовлекаться в общественное производство, а также сохранившимися традиционными взаимоотношениями, рассматривавшими их в основном в качестве домохозяек. Аналогичное положение было и среди русского населения в 1930-е годы. По-видимому, этим можно объяснить более существенный спад рождаемости у него в рассматриваемый период.
После прихода к власти Л. И. Брежнева государственная политика в отношении ЛПХ была смягчена, но в отношении занятости женщин — продолжена. На сокращение рождаемости влияли и другие факторы. Доля городских жителей среди бурят увеличилась с 16,6% до 23,5%, среди русских — с 46,5% до 50,3%. В это время повысился уровень образования как бурятского, так и русского населения. Среди бурят число лиц с высшим образованием на 1000 человек в возрасте 10 лет и старше выросло с 21 до 54, с незаконченным высшим, средним полным и неполным — с 259 до 3825. По русскому населению нет сопоставимых данных, однако, судя по общей статистике, его образовательный уровень тоже существенно вырос. По социальноклассовой структуре данные тоже не полностью сопоставимы, так как в статистических сборниках они представлены по всему (а не по занятому населению). Тем не менее, это не является принципиальным моментом. Доля рабочих и служащих у бурят увеличилась с 42,8% до 73,2%, колхозников снизилась более, чем вдвое — с 57,0% до 26,8%. Среди русских доля рабочих и служащих возросла с 78,2% до 89,4%, колхозников — снизилась с 21,7% до 10,5%6.
При изучении возрастных коэффициентов рождаемости выявлена существенная специфика между русским и бурятским населением (табл. 1). У бурят самая высокая рождаемость наблюдалась в когорте 25-29 лет, тогда как у русских среди 20-24 летних. Причём у бурятских женщин в средних и старших репродуктивных возрастах она продолжала оставаться высокой как 1959, так и в 1970 гг., тогда как у русских наметилось явное снижение, как и в целом по РСФСР. Уменьшение возрастных коэффициентов среди бурятских женщин происходило равномернее (кроме самой молодой возрастной когорты), и лишь у старших репродуктивных групп снижение оказалось несколько большим. Сокращение рождаемости, которое начинается со второго этапа демографического перехода, по-видимому, происходит именно таким образом. Это косвенно подтверждают данные по РСФСР за 1920-е — 1930-е гг., которая тогда находилась на втором этапе демографического перехода, и где снижение рождаемости происходило по схожему сценарию [10, с. 186]. У русского населения в 1960-е гг. с повышением возраста сокращение рождаемости, которая к тому времени перешла к третьему этапу, усиливалось, что полностью соответствует тенденциям, наблюдаемым в РСФСР.
В городских поселениях рождаемость у бурят сокращалась быстрее. За 1959– 1970 гг. она снизилась более чем на треть (–35,5%), с 3,013 до 1,943 ребёнк а на одну
Таблица 1.
Изменение возрастных коэффициентов рождаемости за 1959–1970 гг. у бурят и русских,‰
Table 1
Changing of age-specific birth rates in 1959–1970 among the Buryatian and Russian population,‰
|
Возрастная группа, лет |
Буряты |
Русские |
|
15–19 |
-56,4 |
-5,9 |
|
20–24 |
-29,4 |
-23,0 |
|
25–29 |
-21,1 |
-34,8 |
|
30–34 |
-30,3 |
-40,2 |
|
35–39 |
-27,3 |
-46,8 |
|
40–44 |
-37,7 |
-60,5 |
|
45–49 |
-40,3 |
-79,5 |
Источники: Российский государственный архив экономики: Ф. 1562, Оп. 336, Д. 5346, Л. 1–4; Оп. 27, Д. 482, Л. 85–85об; Оп. 46, Д. 1565, Л. 89–89об; Государственный архив РФ: Ф.А.—374, Оп. 31, Д. 1851, Л. 142–142об; Национальный архив Республики Бурятия: ФР.—196, Оп. 14, Д. 5681, Л. 6–7об; Оп. 15, Д. 5712, Л. 11–12об; Д. 6101, Л. 22–22об.
женщину. Это в целом согласуется с наблюдениями советских исследователей, которые отмечали, что в республиках с высокой рождаемостью она активнее снижалась сначала в городских посе-лениях7. В сельской местности она уменьшилась только на 20,0% — с 5,659 до 4,510. В республиках с низкой рождаемостью, наоборот, снижение в сельской местности шло быстрее, так как там семьи стали переходить к городским нормам детности. У них широко распространился городской образ жизни, усилилась концентрация сельского населения в агломерациях, более прогрессивными были социальноклассовая структура и занятость. И, действительно, среди русских рождаемость в сельской местности снизилась на 37,5% (с 4,160 до 2,601), тогда как в городских населенных пунктах — только на 24,7% (с 2,610 до 1,966).
В итоге, показатели рождаемости русских и бурятских женщин сравнялись между собой. В городах со временем быстрее происходило сближение социальных и психологических характеристик лиц, принадлежащих к разным национальностям [14, с. 135]. Так как в городских поселениях БАССР доминировало русское на- селение, в большом количестве проживали украинцы, белорусы и другие этносы с низкой рождаемостью, то заимствование новых репродуктивных моделей шло активнее. Похожие процессы можно было наблюдать, например, у казахов и киргизов, у которых немногочисленное городское население сильно отличалось по образу жизни и демографическому поведению от окружающей сельской местности. В тех же случаях, когда мигранты в город попадали в среду своей национальности или близкую к ней, перестройка традиционных норм замедлялась. В результате, дифференциация в рождаемости городской и сельской местности у бурят достигла своего максимума. Можно предположить, что у русских, раньше вступивших на путь демографического перехода, такие тенденции преобладали в 1930-е гг., тогда как в изучаемый период началось сближение показателей.
Итак, демографический переход русского населения БАССР проходил в соответствии с тенденциями, характерными для РСФСР в целом, то есть по английской модели, хотя и с небольшим запозданием. В рассматриваемый период произошел переход к третьему этапу, когда рождаемость снизилась до уровня простого воспроизводства. В то же время демогра- фическая модернизация у бурят началась позже и шла по японско-мексиканской модели. В отличие от русских, среди бурят процесс демографического перехода в 1930-е г. только начал набирать обороты. На это косвенно указывает сокращение численности бурятского этноса в 1926– 1939 гг. вследствие высоких смертности и миграции. Снижение смертности в 1950е гг. сопровождалось сильным повыше- нием рождаемости, которая стала сокращаться лишь в первой половине 1960-х гг. Следовательно, в это время у них наблюдался ещё первый этап демографического перехода. Наступление второй фазы произошло уже во второй половине 1960-х годов. Именно с этим связано более значительное увеличение численности бурятского населения в эти годы в республике.
Список литературы Рождаемость среди бурятского и русского населения Бурятской АССР в 1960-е годы: тенденции и особенности
- Мангатаева, Д. Д. Население Бурятии: тенденции формирования и развития / Д. Д. Мангатаева.—Улан-Удэ, 1995.— 132 с.
- Демографическое и социальное развитие Бурятской АССР / ред. И. М. Занданов.—Улан-Удэ : БНЦ СО АН СССР, 1990.— 189 с.
- Современный быт и этнокультурные процессы в Бурятии / ред. П. Т. Хаптаев.— Новосибирск : Наука, 1984.— 181 с.
- Рандалов, Ю.Б. Социалистическое преобразование хозяйства, быта и культуры бурятского улуса за годы советской власти (1917-1961 гг.). Опыт историко-этнографического исследования / Ю. Б. Рандалов.—Улан-Удэ : Бурят. кн. изд-во, 1976.— 173 с.
- Вяткина, К. В. Очерки культуры и быта бурят / К. В. Вяткина.—Ленинград : Наука, 1969.— 218 с.
- Митупов, К. Б. — М. Становление социалистической социальной структуры Бурятии, 19381960 гг. / К. Б. — М. Митупов. — Новосибирск : Наука, 1986.— 134 с.
- Балдано, М.Н. Промышленное развитие Республики Бурятия в 1960-1985 гг.: итоги, проблемы / М. Н. Балдано.—Улан-Удэ : БНЦ СО РАН, 2000.— 161 с.
- Тармаханов, Е.Е. Промышленность и рабочий класс советской Бурятии. 1938-1958 гг. / Е. Е. Тармаханов. — Новосибирск : Наука, 1979.— 333 с.
- Демографическая модернизация России, 1900-2000 / ред. А. Г. Вишневский. — Москва : Новое изд-во, 2006.— 608 с.
- Дашинамжилов, О.Б. Городское население Западной Сибири в 1960-1980-е годы: Историко-демографическое исследование / О. Б. Дашинамжилов.—Новосибирск : Наука, 2018.— 368 с. DOI: 10.15372/Р0Р^АТЮШ0^0В;
- Урланис, Б.Ц. Рождаемость и продолжительность жизни в СССР / Б. Ц. Урланис. — Москва : Госстатиздат, 1963.— 136 с.
- Борисов, В. А. Перспективы рождаемости / В. А. Борисов. — Москва : Статистика, 1976.— 248 с.
- Бондарская, Г.А. Рождаемость в СССР (Этнодемографический аспект) / Г. А. Бондарская.— Москва : Статистика, 1977.— 128 с.
- Сифман, Р.И. Динамика рождаемости в СССР (по материалам выборочных обследований) / Р. И. Сифман. — Москва : Статистика, 1974.— 183 с.
- Вербицкая, О.М. Российское крестьянство: от Сталина к Хрущеву. Середина 40-х. — начало 60-х годов / О. М. Вербицкая. — Москва : Наука, 1992.— 224 с.
- Безнин, М.А. Крестьянский двор в Российском Нечерноземье, 1950-1965 гг. / М. А. Безнин.— Москва : Вологда, 1991.— 253 с.
- Карначев, А.Е. Экономическое и социально-культурное развитие села Бурятии в 1960-е года / А. Е. Карначев.—Улан-Удэ : БГСХА, 2010.— 133 с. EDN: OUPYSV
- Харчев, А. Г. Профессиональная работа женщин и семья / А. Г. Харчев, С. И Голод.—Ленинград : Наука, 1971.— 176 с.
- Бартанова, А. А. Женщины Советской Бурят-Монголии. Исторический очерк / А. А. Барта-нова.—Улан-Удэ : Бурмонгиз, 1952.— 120 с.
- Буяева, Н.Ц. Распределение трудовых ресурсов: тенденции и проблемы / Н. Ц. Буяева // Демографическое и социальное развитие Бурятской АССР.—Улан-Удэ : БНЦ СО АН СССР, 1990. — С. 75-88.