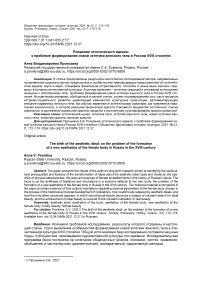Рождение эстетического идеала: к проблеме формирования новой эстетики женского тела в России XVIII столетия
Автор: Анна Владимировна Пронькина
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Культура
Статья в выпуске: 12, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье представлены результаты многолетних исследований автора, направленных на выявление социокультурных предпосылок и особенностей трансформации представлений об эстетическом идеале, вкусе и мере, специфике физической аттрактивности, способах и назначении женских «прикрас» в истории отечественной культуры. В центре внимания – антитеза традиций и инноваций в отношении женщины к собственному телу, проблема формирования новой эстетики женского тела в России XVIII столетия. Исторический материал, обобщенный в данной статье, служит подтверждением того, как в процессе историко-социального развития цивилизаций изменяются культурные ориентации, регламентирующие внешние параметры женского тела, как обычаи заменяются эстетическими идеалами, как появляется новативная каноничность, в которой реальная физическая красота становится предметом постоянного поиска идеальной, а достижение идеальной красоты сводится к постоянному культивированию красоты реальной
Эстетический идеал, эстетика тела, эстетика женского тела, новая эстетика жен-ского тела, телесная красота, женская красота
Короткий адрес: https://sciup.org/149138832
IDR: 149138832 | УДК: 008:7.01:7.041-055.2“17” | DOI: 10.24158/fik.2021.12.27
Текст научной статьи Рождение эстетического идеала: к проблеме формирования новой эстетики женского тела в России XVIII столетия
,
Исторический социокультурный контекст . Конец XVII – первая треть XVIII в. вошли в историю России как сложное и в значительной степени противоречивое реформенное время. Споры о характере и динамичности влияния петровских преобразований на всю последующую жизнь государства и личности в этом государстве не утихают до сих пор. Однако факты остаются фактами. Российское привилегированное сообщество выбрало для себя иной путь, отличный от прошлого своего народного состояния, и пошло по нему с предвкушением перспектив счастливой, активной и эффективной жизни.
Одной из самых первых и разительных социальных перемен стало обретение аристократкой нового, более свободного и вместе с тем менее определенного в ценностном отношении социального положения. Сбросив русский сарафан, отринув оковы традиций, диктующих привычные дотоле мышление и поведение, она, как могла и умела, пыталась приспособиться к складывающимся реалиям. Такая индивидуальная неопределенность придворной дамы вкупе с жаждой свежих впечатлений, европейского опыта и, впрочем, некоторым равнодушием к разнообразию духовной жизни приводила к формированию основных женских занятий – кокетству, балам и празднествам, тогда как хозяйство и семейные обязанности отходили на второй план. Столичная дворянка стала восприниматься как будто рожденной для украшения и утех. Ее черты и характеристики призваны были показать, что «наделенная ими личность не способна к полезной работе и поэтому, следуя праздному образу жизни, должна находиться на содержании у своего владельца» (Веблен, 1984: 169). Тем не менее «попадались и среди ея представительниц не одни “щеголихи” и “кокетки”, не одни сахарные куколки, созданные и приспособленные воспитанием для одного лишь “пантомима любви”» (Михневич, 1895: 128), однако вплоть до конца XVIII столетия они являлись скорее исключением, чем правилом: деятельной женщине пока не было места в русском аристократическом обществе, да и сама она еще искала возможности развить и применить собственные дарования на благо своей семьи, общества и отечества.
Представление нашей героини высшему свету стало осуществляться даже по современным меркам довольно рано – в 12-13 лет. До той поры девочку следовало обучить немецкому, французскому (именно он чуть позже станет основным в светском обществе), итальянскому и по возможности или необходимости иным языкам, основам разных наук (для общего развития и поддержания беседы), искусствам (декламации, музицированию, пению, рисованию, танцам), манерам, моде и, конечно же, кокетству, т. е. демонстрации собственных достоинств приличествующим положению, времени и месту образом. Для этого нанимался целый штат иноземных бонн, гувернанток и учителей. В приоритете оказались опять-таки немцы и французы. Сама «цель воспитания лежала, – свидетельствует В.О. Михневич, – по понятиям времени, вовсе не в достижении высшаго усовершенствования духовной природы девушки, не в развитии ея ума и сердца. Родителей и ее самое озабочивала прежде всего суетная мысль составить возможно более блестящую “партию”, то есть как можно выгоднее и счастливее выйти замуж. Это был единственный, всепоглощающий идеал девушки, и для его достижения ей давалось “превосходное” воспитание, систематически рассчитанное единственно в этом лишь смысле» (Михневич, 1895: 67).
Этот идеал девушки-невесты подметил и В.Г. Белинский. Он писал: «Русская девушка – не женщина в европейском значении этого слова, не человек: она не что другое, как невеста. Еще ребенком она называет своими женихами всех мужчин, которых видит в своем доме, и часто обещает выйти замуж за своего папашу или за своего братца; еще в колыбели ей говорили и мать, и отец, и сестры, и братья, и мамки, и няньки, и весь окружающий ее люд, что она – невеста, что у ней должны быть женихи. Едва исполнится ей двенадцать лет, и мать, упрекая ее в лености, в неумении держаться и тому подобных недостатках, говорит ей: “Не стыдно ли вам, сударыня: ведь вы уж невеста!” Удивительно ли после этого, что она не умеет, не может смотреть сама на себя, как на женственное существо, как на человека, и видит в себе только невесту? Удивительно ли, что с ранних лет до поздней молодости, иногда даже и до глубокой старости, все думы, все мечты, все стремления, все молитвы ее сосредоточены на одной idee fixe – на замужестве, что выйти замуж – ее единственное страстное желание, цель и смысл ее существования, что вне этого она ничего не понимает, ни о чем не думает, ничего не желает и что на всякого неженатого мужчину она смотрит опять не как на человека, а только как на жениха? И виновата ли она в этом?» (Белинский, 1948: 538). Очевидно, что нет, не виновата, поскольку вся воспитательная система начала сводиться к тому, чтобы взрастить этот идеал, максимально освободив его от тяжелых дум, интеллектуальных поисков, бытового бремени и какой бы то ни было физической работы, наделив стремлениями к совершенно другим идеям, ценностям и целям, которые позиционировались как основа обновленной социальной жизни, как инновативный образец женской доли.
Обновленный статус давал право на большую степень самостоятельности, полное обновление гардероба, приобретение необходимого количества головных уборов, обуви, аксессуаров, украшений и так называемых «средств красоты», но самое главное – на посещение всевозможных великосветских собраний, на которых можно было все эти прелести нового состояния ощутить в полной мере.
Прежде всего широкое распространение получили городские гуляния и «огненные потехи». Затем введенные Петром Великим 25 ноября 1718 г. ассамблеи положили начало целому ряду общественных мероприятий открытого и закрытого типов – раутов, балов, маскарадов и карнавалов. Сопровождавшие указ рекомендации («О достоинстве гостевом, на ассамблеях быть имеющем») включали перечень требований к внешнему виду и физическому состоянию приглашенных. Так, перед появлением «многонародным» гостю надлежит быть старательно вымытым, тщательно выбритым, обряженным по приличию. Дамам повелевалось рядиться и умеренно косметикой образ свой обольстительно украсить. Позже подобного рода рекомендации стали основой светских церемониалов, устанавливавших для посетителей званого вечера ту или иную форму одежды и допустимые вольности. Общий регламент повседневной и парадной одежды устанавливал указ 1700 г. Согласно ему с 1 января 1701 г. всем дворянским женам и дочерям полагалось носить платья на венгерский и немецкий манер.
Безусловно, «всеобщее переоблачение» осуществлялось не так легко, как может показаться на первый взгляд: если молодым дамам приходилось учиться одеваться, то женщинам более взрослым – фактически раздеваться. Русская традиционная одежда была многослойной, длиннополой, закрытой, новая – подчеркивала или моделировала достоинства фигуры, открывала одну или две трети рук, за счет глубокого декольте обнажала шею, зону ключиц и верхнюю часть груди. Кроме того, все платья европейского образца были корсетного типа. Они сковывали привычные движения, прививали правильную осанку, приучали к неспешным действиям и походке.
Первоначально наряды отшивались по заказу у мастеров из Немецкой слободы близ Москвы, портных Государевой мастерской палаты и Шатерной палаты, затем – в частных ателье. Выходило долго и, что греха таить, не всегда подобающе. Поэтому многие предпочитали выписывать костюмы из Европы, чаще всего из Франции. Такое заимствование, правда, происходило с некоторым опозданием. Журналов тогда еще не было. С модными новинками знакомили посредством манекенов: «Большая Пандора» демонстрировала придворное платье, «Малая Пандора» – домашнее. Их возили из одной страны в другую для просвещения и своего рода рекламы. Россия у визитеров не была в числе приоритетов, что обусловило широкое распространение среди русской знати французского дворянского костюма образца второй половины XVII в. Из Франции того времени переняли и новую форму прически, и парики, и, как тогда говорили, «вид лица», и собственно сам ритуал туалета.
Заграничные поездки становятся делом привычным, однако доступными они долгое время будут исключительно для мужского населения и замужних дам. Из путешествий привозились не только дефицитные товары, но и бесчисленные истории о том, что и как в Европе принято, что и как носят, каковы манеры и говор и т. п. К примеру, российский предприниматель и меценат Н.А. Демидов не без удовольствия вспоминал свои французские странствия: «Красота женского пола в Париже подобна часовой пружине, которая сходит каждые сутки; равным образом и прелесть их заводится каждое утро. Она подобна цвету, который рождается и умирает в один день. Все это делается притиранием, окроплением, убелением, промыванием... наконец являются разные духи, эссенции и благоухания. Надлежит сделать белую кожу, придать себе хорошую тень, загладить морщины на лбу, в порядок привесть брови, дать блеск глазам, розовым учинить губы; словом, надобно до основания переиначить лицо свое и из старого произвести новое» (Демидов, 1786: 61).
Чрезвычайный интерес вызывали и иностранные гости. И.Г. Георги свидетельствует: «Путешественник, или путешественница из Франции, или одетый во вкус диких всадников англоман, ибо и Англия начала уже щедро снабжать россиян модами, или привезший последние наряды и галаншереи француз, волочес, или, взявшая образец уборов с театральных и распутных парижских девок, чепешница, француженка, или выписавший вновь товары из Лондона, через неделю, много через две, магазинщик, а с верх того всякий праздник, каждый бал, или ассамбле, вскру-жают головы щеголям и щеголихам петербургским и московским. Новые заботы, новые издержки, новые странности. Прежние же забыты, брошены истлевать в гардеробе, или розданы слугам и служанкам, либо проданы на рынке за пятидесятую долю и меньше прежней цены своей. <…> Все моды суть, яко цвет сельный (полевой. – Примеч. авт. ): процветут и увянут. <…> Кто же от онаго расточения приемлет мзду? Иностранец, вымысливший, сделавший и привезший в Россию оныя вещи. <…> Сему своекорыстных иностранцев очарованию повинуясь, каждый щеголь, каждая щеголиха вменяет себе в стыд купить те же товары в лавках русских, вменяют в поношение заплатить дешевле: но не стыдятся ни мало, когда бывают обмануты, и за вещь, дела русского, платят двойную цену продавцу иностранному» (Георги, 1799: 145–146).
«Окно в Европу», внесшее свежий ветер в традиционную русскую жизнь и вскружившее голову не одному поколению знати, заставляя без оглядки рваться на поиски все более утонченных способов чувственного познания бренного бытия, фактически стало единственным мерилом прогрессивности, а значит, и правильности тех или иных явлений. С течением времени это привело к распространению убеждения, что все свое, русское «есть (по самому существу своему) нечто худшее, низшее» (Данилевский, 2011: 329). Отголоски таких воззрений сохранились в общественном мнении до сих пор.
От обычая к эстетическому идеалу . Женская красота в древнерусском обществе основывалась на идеях патриархальных и функциональных. Нет, она не была груба и неотёсанна. Она была монолитна и фундаментальна, слита с природой и первоначалами человеческого бытия, столь искусно воплотившимися в отечественной родовой традиции. «В сущности, – как указывает И.Е. Забелин, – основным понятием или основным представлением о красоте женского лица в допетровской Руси было простое представление о физическом цветущем здоровье. <…> Идея романтической, сентиментальной красоты не была им известна; они еще были очень близки к самым реальным представлениям по этому предмету, к древнейшему коренному значению самого слова красота» (Забелин, 2014: 572–573). Да, она была стандартизирована и фактически нивелировала индивидуальные характеристики. «Лицо, – как тонко подмечает В.О. Ключевский, – тонуло в обществе, было дробной величиной “мира”, жило одной с ним жизнью, мыслило его общими мыслями, чувствовало его мирскими чувствами, разделяло его повальные вкусы и оптовые понятия, не умея выработать своих особых, личных, розничных, и ему позволялось быть самим собой лишь настолько, насколько это необходимо было для того, чтобы помочь ему жить как все, чтобы поддержать энергию его личного участия в хоровой гармонии жизни или в трудолюбиво-автоматическом жужжании пчелиного улья» (Ключевский, 1990: 13). Но таков был обычай, который обладал особыми сакраментальными смыслами: внешний вид женщины и элементы ее костюма служили данью традиции предков и регулировались обрядами, уберегали женщину от «дурного глаза», маркировали ее возрастные характеристики, жизненный потенциал (например, наличие регул и способность женщины к продолжению рода) и, конечно же, ее социальный статус в общине.
Вместе с европейской модой в обновляющуюся Россию постепенно приходит принципиально иное отношение к женщине, внешность которой начинает оцениваться с более чувственных позиций. Она вдруг оказывается очаровательной, прелестной и даже совершенной. Отличия старого образчика от нового наиболее заметны при сопоставлении. Вспомним всем известные портреты, на которых изображены первая и вторая жены Петра Великого – Евдокия Федоровна Лопухина и Екатерина I. Как похожи эти женщины? И в то же время как отличаются и их внешний облик, и манера его фиксации? Грань очень тонкая, но она очевидна. Кроме того, при тщательном созерцании не оставляет ощущение, что эти портреты созданы с разницей во многие десятки лет, возможно, даже в столетие. А между тем это картины практически одного периода – их датируют первой третью XVIII в.
Размышляя над внешним образом своих современниц, князь М.М. Щербатов писал: «Приятно было женскому полу, бывшему почти до сего невольницами в домах своих, пользоваться всеми удовольствиями общества, украшать себя одеяниями и уборами, умножающими красоту лица их и оказующими их хороший стан… <…> Жены, до того не чувствующие свои красоты, начали силу ее познавать, стали стараться умножать ее пристойными одеяниями и более предков своих распростерли роскошь в украшении» (Щербатов, 2010: 425). Познание силы этой другой красоты развивалось параллельно с формированием представлений об идеалах, вкусе и мере, физической аттрактивности, т. е. способности привлекать внимание к собственному внешнему облику, способах и назначении женских «прикрас». Дотоле сокрытое тело превращается в главный объект демонстрирования. Тело становится самоцелью и самоценностью. Его вид и характеристики отдаются в подчинение не конкретным необходимостям и обрядам, а абстрактным эталонам, обусловленным эмоциональной сферой восприятия персон и явлений. Они оборачиваются чем-то вроде картины мира, способной закреплять как индивидуальную, так и надындивидуальную реальность на пути движения личности, социума, культуры к некой совершенной целостности, выступают как специфический код, текст и даже метатекст; рассматриваются как один из способов визуальной репрезентации индивидуальных задач, вкусовых предпочтений, настроений, как средство достижения актуальных оптических эффектов, способствующих повышению качества позиционирования личности в социальной группе.
При этом откровенной, обнажающей демонстрации долгое время подлежат только верхние, возвышенные части тела, четко отделенные от греховных нижних. Женщина уподобляется статуе, где сама конструкция платья выступает в качестве огранки, своего рода пьедестала для прекрасного бюста. Благородство и утонченность верхней части тела подчеркивали также и размеренные движения, и сдержанное выражение лица, и ослабленная мимика. Надлежало производить мягкое и легкое впечатление, каждым жестом подчеркивать собственную грацию, состояние нежащей слабости. Недостаток контроля над собой свидетельствовал о простонародной грубости, низком уровне развития и социального статуса. То же относилось и к излишне чувственному выражению собственных реакций на окружающую действительность, особенно к улыбке.
Одной из главных проблем на этом поприще для русской придворной дамы стало рассогласование внешнего и внутреннего. Вырабатывание манер нового образца требовало от нее предельной концентрации, что не могло на первых порах не приводить к конфликтам, противоречиям и в известной степени к конфузам. Описывая европейскую реальность XVII столетия, французский писатель-моралист Ф. де Ларошфуко сетовал: «Каждый жаждет быть не собой, а кем-то другим, жаждет присвоить себе чуждый ему облик и неприсущий ум, заимствуя их у кого попало. Люди делают опыты над собой, не понимая, что подобающее одному вовсе не подобает другому, что нет общих правил для поведения и что копии всегда плохи. <…> Иные люди не только с готовностью отказываются от присущей им манеры держаться ради той, которую считают приличествующей достигнутому положению и сану, – они, еще только мечтая о возвышении, заранее начинают вести себя так, словно уже возвысились. Сколько полковников ведут себя, как маршалы Франции, сколько судейских напускают на себя вид канцлеров, сколько горожанок играют роль герцогинь! <…> Мы тем приятнее окружающим, чем согласнее наш вид и тон, манеры и чувства с нашим обликом и положением в обществе, и тем неприятнее, чем большее между ними несоответствие» (Ларошфуко, 1971: 207–208). Эта жажда казаться, а не быть, очень точно обрисовывает отечественные попытки модернизации общественного поведения. Великосветские дамы, особенно молодые, с упоением читая иностранную литературу, наблюдая за поведением иностранцев или слушая их рассказы, выбирали для себя конкретные примеры, которые затем репетировали перед зеркалом до полного, по их мнению, соответствия.
Центральный элемент эстетической системы возвышенного верха – идеальное лицо – должен был отвечать следующим критериям: овальная форма, кожа гладкая и белая как снег, высокий, покатый, чуть-чуть выступающий вперед лоб, дугообразные черные брови, блестящие и выразительные глаза, греческий профиль, невинно румяные щеки и маленькие пухленькие губы. Его поэтическую формулировку представил М.В. Ломоносов в «Разговоре с Анакреоном» (1965: 288–289) как концентрацию философии гедонизма, как квинтэссенцию земной красоты:
Мастер в живопистве первой, Первой в Родской стороне, Мастер, научен Минервой, Напиши любезну мне.
Напиши ей кудри черны, Без искусных рук уборны, С благовонием духов, Буде способ есть таков. Дай из роз в лице ей крови И как снег представь белу, Проведи дугами брови По высокому челу, Не сведи одну с другою, Не расставь их меж собою, Сделай хитростью своей, Как у девушки моей;
Цвет в очах ея небесной, Как Минервин, покажи И Венерин взор прелестной С тихим пламенем вложи,
Чтоб уста без слов вещали И приятством привлекали И чтоб их безгласна речь Показалась медом течь; Всех приятностей затеи В подбородок умести И кругом прекрасной шеи Дай лилеям расцвести, В коих нежности дыхают, В коих прелести играют И по множеству отрад Водят усумненной взгляд; Надевай же платье ало И не тщись всю грудь закрыть Чтоб, ее увидев мало, И о прочем рассудить.
Коль изображенье мочно, Вижу здесь тебя заочно, Вижу здесь тебя, мой свет; Молви ж, дорогой портрет.
Данный канон будет существовать вплоть до конца XVIII столетия, а затем начнут утверждаться более индивидуализированные представления о прекрасном, которые сложат целую галерею женских обликов от самых высоконравственных до порочных: «святые», «благородные», «кроткие», «страстные», «жеманницы», «инфанты», «куколки», «горделивые», «роковые», «соблазнительницы», «бесстыдницы» и т. п. У каждого из них будут свои черты, свои специфические приметы. Сама красота словно распадется на разновидности. В общеупотребительной лексике широкое распространение приобретут такие слова-характеристики, как «миловидная», «симпатичная», «хорошенькая», «смазливая», «аппетитная», «прелестная», «очаровательная», «привлекательная», «пленительная», «неотразимая», «роскошная», «живописная», «величественная», «великолепная», «возвышенная» и «божественная», фиксирующие, казалось бы, одно и то же, однако совершенно по-разному. Особое развитие получит идея противопоставления бездушной и одухотворенной красоты.
Такое проявление регламентов тела и категорий прекрасного свидетельствует главным образом о вырабатывании в общественном сознании проективных воззрений. Безусловно, тело дано человеку от природы, однако должен ли он довольствоваться этим естественным состоянием? Ответ очевиден. И вместе с его уяснением в теле, включенном в диалогичный контекст между «естественным» и «искусственным», «нормативным» и «табуированным», «формальным» и «неформальным», «прекрасным» и «безобразным», «индивидуальным» и «коллективным», «актуальным» и «неактуальным», вдруг обнаружатся многочисленные достоинства и недостатки. Первые нужно будет непременно подчеркивать, а вторые – всячески скрывать. Соразмерно количеству и качеству этих недостатков и достоинств начнут формироваться все новые и новые практики трансформации тела: физические, гигиенические, косметические, куафер-постижерные и, конечно же, вестиментарные.
Выводы . В ходе анализа широкого круга источников установлено, что вместе с европейской модой в обновляющуюся Россию XVIII в. приходит принципиально иное отношение к женщине и ее внешнему виду. В частности, патриархальные воззрения на облик женщины заменяются идеями романтической, сентиментальной, абстрагированной красоты. Женское тело в аристократической культуре мыслится как экзогенная эстетическая самоцель и самоценность. Оно становится фиксатором физической привлекательности, средством привлечения внимания, пространством для преобразования, отражением следования этикету и социальным соматическим нормам. При этом синтез нравственности, интеллектуального развития и физической привлекательности в этот период пока еще не представляется возможным.
Список литературы Рождение эстетического идеала: к проблеме формирования новой эстетики женского тела в России XVIII столетия
- Белинский В.Г. Собрание сочинений: в 3 т. Т. 3. Статьи и рецензии 1843–1848 / под общ. ред. Ф.М. Головенченко. М., 1948. 927 с.
- Веблен Т. Теория праздного класса. М., 1984. 367 с.
- Георги И.Г. Описание всех обитающих в Российском государстве народов: их житейских обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, упражнений, забав, вероисповеданий и других достопамятностей : в 4 ч. Ч. 4: О народах монгольских, об армянах, грузинах, индийцах, немцах, поляках и о владычествующих россианах, с описанием всех именований козаков, также история о Малой России и купно о Курландии и Литве. СПб., 1799. 385 с.
- Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., 2011. 816 с.
- Демидов Н.А. Журнал путешествия его высокородия господина статскаго советника и Ордена святаго Станислава кавалера Никиты Акинфиевича Демидова по иностранным государствам с начала выезда его из Санкт-Петербурга 17 марта 1771 года по возвращение в Россию, ноября 22 дня 1773 года. М., 1786. 164 с.
- Забелин И.Е. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях / отв. ред. О.А. Платонов. М., 2014. 704 с.
- Ключевский В.О. Исторические портреты. М., 1990. 624 с.
- Ларошфуко Ф. де. Мемуары. Максимы / пер. с фр. Э.Л. Линецкой. Л., 1971. 291 с.
- Ломоносов М.В. Избранные произведения. М. ; Л., 1965. 580 с.
- Михневич В.О. Русская женщина XVIII столетия. Киев, 1895. 404 с.
- Щербатов M.М. Избранные труды. М., 2010. 632 с.