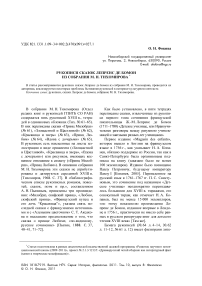Рукописи сказок Лепренс де Бомон из собрания М. Н. Тихомирова
Автор: Фокина Ольга Николаевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Древнерусский четий сборник: от средневековья к новому времени
Статья в выпуске: 8 т.10, 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются рукописи сказок Лепренс де Бомон из собрания М. Н. Тихомирова, проводится их датировка, анализируются некоторые проблемы бытования рукописей в историко-культурном контексте.
Рукописи, сказки лепренс де бомон, собрание м. н. тихомирова
Короткий адрес: https://sciup.org/14737591
IDR: 14737591 | УДК: 821.1331.1.09-34+002.2(470)(091)+027.1
Текст научной статьи Рукописи сказок Лепренс де Бомон из собрания М. Н. Тихомирова
В собрании М. Н. Тихомирова (Отдел редких книг и рукописей ГПНТБ СО РАН) содержатся пять рукописей XVIII в., тетрадей в одинаковых обложках (Тих. № 61–65). В них переписаны сказки «Принц Милобраз» (№ 61), «Злощастной и Щастливой» (№ 62), «Красавица и зверь» (№ 63), «Принц Любим» (№ 64), «Вдова с дочерьми» (№ 65). В рукописях есть наклеенные на листы иллюстрации в виде орнамента («Злощастной и Щастливой», «Красавица и зверь», «Вдова с дочерьми») или рисунков, имеющих косвенное отношение к сюжету («Принц Милоб-раз», «Принц Любим»). В описании собрания М. Н. Тихомирова эти сказки не атрибутированы и датируются серединой XVIII в. [Тихомиров, 1968. С. 37]. В «библиографическом списке рукописных романов, повестей, сказок, поэм и пр.», составленном А. Н. Пыпиным, приведены три произведения: «Милобраз, скифский принц», «Любим, скифский принц», «Французский купец и его дочь “Красавица”», указана связь последней сказки с французскими источниками и с «Аленьким цветочком» С. Т. Аксакова и высказано предположение о том, что сказка о принце Любиме, «по-видимому, русское сочинение» [Пыпин, 1888. С. 37, 40–41, 71–72].
Как было установлено, в пяти тетрадях переписаны сказки, извлеченные из рукописи первого тома сочинения французской писательницы Ж.-М. Лепренс де Бомон (1711–1780) «Детское училище, или Нравоучительнее разговоры между разумною учительницей и знатными разных лет ученицами».
Первое издание «Magasin des enfants», которое вышло в Англии на французском языке в 1756 г., как указывает Н. А. Копанев, обязано поддержке из России, так как в Санкт-Петербурге была организована подписка на книгу (заказано было не менее 100 экземпляров). Издание было посвящено Павлу Петровичу, будущему императору Павлу I [Копанев, 2005]. Переведенное на русский язык в 1761–1767 гг. П. С. Свистуновым, это сочинение под названием «Детское училище» неоднократно переиздавалось большими для XVIII в. тиражами, его совокупный тираж, как отмечает Н. А. Копанев, был не менее 15 000 экземпляров, «по этому показателю произведение Ле-пренс де Бомон, изданное впервые в Лондоне в 1756 г., практически не имело себе равных в русском репертуаре книг для детского чтения XVIII века» [Там же].
Бумага рукописей (№ 64 л. 4–14, № 62 л. 11–12, № 61 л. 12) имеет филиграни лите- ры «ВФ СТ в волнистом прямоугольнике» (1765–1776 гг.) [Клепиков, 1959. С. 44]. Таким образом, можно предположить, что рукопись была сделана с первого издания книги. Сравнение текстов сказок с печатным изданием [Бомон, 1788] выявило незначительные разночтения преимущественно стилистического характера, например (Принц Милобраз, Тих. № 61):
Детское училище
Кроме тебя никого не полюблю на свете.
(С. 198)
Рукопись
Никогда не полюблю иную.
(Л. 3 об.)
Переписчик прибегает к уточнению:
Детское училище
Не дозволяется (С. 198)
Он (С. 202)
Они (С. 204)
Рукопись
Теперь не дозволяется (Л. 3 об.)
Этот (Л. 5)
Принцы (Л. 7)
Последовательность слов в предложении может меняться, встречаются пропуски слов:
Детское училище
Подданные мои столь грубы и ослеплены невежеством
(С. 206)
Рукопись
Подданные мои столь ослеплены невежеством
(Л. 7. об.)
На тот факт, что первоначально эти сказки входили в рукопись первого тома «Детского училища» Лепренс де Бомон, указывают следующие особенности тетрадей: части листов первых в рукописях № 62 («Злощастной и Щастливой») и № 63 («Красавица и зверь») и часть последнего листа в рукописи № 64 («Принц Любим») заклеены картинками, не полностью заклеенный текст затерт, так же как и первоначальная пагинация, на ряде страниц сохранились следы старой пагинации. Кроме того, в начале л. 1 рукописи № 61 («Принц Милобраз») осталась не заклеенной строка, полностью совпадающая с печатным изданием: «вам сказку, которую я обещала» [Бомон, 1788. С. 192].
Переписка первого тома сочинения «Детского училища», а затем выделение сказок и их бытование в виде тетрадей отразили процесс рецепции в русской традиции произведения, занимающего особое место в переводной литературе XVIII в. Несмотря на большой для XVIII в. тираж первого издания (первая часть – 1 500 экз., вторая и четвертая – по 2 000 экз., третья – 2 079 экз.), и он был, видимо, недостаточным, о чем свидетельствуют последовавшие переиздания, а также распространение этого сочинения в рукописях.
Лепренс де Бомон в настоящее время известна как классик мировой детской литературы. Наибольшую популярность получила ее сказка «Красавица и чудовище», которая является переделкой истории Габриэль-Сюзан Барбо де Вильнёв из сборника « La Jeune Ameriсaine et les Contes Marins» (1740). Однако историческое значение творческого наследия этой писательницы, безусловно, существенно шире. Главное достоинство ее книг (наиболее известные – «Magasin des enfants» (1756), «Instructions pour les jeunes dames qui entrent dans le monde» (1764)) заключалось в том, что в них были представлены новые для своего времени подходы к воспитанию и образованию. Будучи прежде всего моралистом, Лепренс де Бомон создала модель оригинального педагогического повествования, в котором волшебные сказки были поводом для назидательного рассказа, включающего темы религиозные и общеобразовательные, предназначенные детям из благородных семейств [Dictionnaire, 1984. Р. 1279].
«Нравоучительные разговоры между разумною учительницею и знатными разных лет ученицами» – это новый тип воспитательно-образовательного дискурса. В книгах Лепренс де Бомон он развернут в форме диалога между учительницей и ученицами и в беседах воспитанниц друг с другом. Обязательные для обучения детей того времени предметы – закон Божий, география, история, словесность изложены в рассказах учительницы, затем следует их обсуждение ученицами разных возрастов. Их в «Детском училище» семеро, возраст – от 5 до 13 лет. У некоторых из них значащие имена: Благо-разумова, Остроумова, Вертопрахова, Не-угомоннова (12, 12, 10, 13 лет), и госпожи М…, Ш…, Н… (5, 7, 7 лет).
Структура частей «Детского училища» отражает главный принцип повествования: они делятся на главы, которые называются «Разговорами» (1-й, 2-й и т. д.). Сказки являются частью беседы: с одной стороны, они играют роль отвлечения от серьезных предметов, с другой – имеют философское содержание и дидактическую направленность. В образах, традиционных для волшебной сказки, а также в аллегорической форме, свойственной литературной сказке, обсуждаются моральные и этические проблемы, имеющие универсальное и характерное для своего времени просветительское значение. Сказки побуждали воспитанниц анализировать не только услышанное, но и свое собственное поведение, как это проясняется в последующих обсуждениях.
В русской культуре последней трети XVIII в. книги Лепренс де Бомон сыграли большую роль. Интерес к ее сочинениям объясняется актуальностью вопросов воспитания детей и «обоего пола юношества» в русском обществе того времени. Передовые педагогические идеи получили широкое распространение в проектах воспитательнообразовательных учреждений и их уставах, в статьях периодических изданий, в сочинениях русских писателей («Генеральное учреждение о воспитании обоего пола юношества» (1764), «Устав воспитания двух сот благородных девиц учорежденнаго е. в. государынею имп. Екатериной Второю…» (1764) и другие сочинения И. И. Бецкого 1, статьи в журналах Н. И. Новикова, статьи Е. Р. Дашковой, произведения А. Т. Болотова и др.). В связи с реформой образования в России и созданием сословных учебно-воспитательных учреждений особое внимание уделялось вопросам женского образования.
В предисловии, написанном переводчиком «Детского училища» П. И. Свистуновым, развивается тема воспитания и образования девочек, необходимых для жизни в обществе. Переводчик выступает защитником и пропагандистом женского образова- ния, он критикует существующее в то время отношение к женскому образованию и домашнему воспитанию, пишет о необходимости образования не только для детей, но и для родителей. «Когда мы в том согласны, что значение наук просвещает человеческий разум и к доброму воспитанию способствует, за что ж оставлены женщины без всякого в оном вспоможения, как будто безполезные общества члены, которые сего попечения не стоят? Разве оне меньше человеки и меньше в обществе нужны и полезны, нежели мущины? <…> Оне ли не стоят главнаго нашего попечения? Им ли не нужно великое знание сердца и разума человеческого? Признаемся лучше, что нельзя довольно знания вложить в их разум, дабы сделать их для сей должности способными: так должность их важна и многотрудна!» [Бомон, 1788. С. 3–5]. О необходимости образования для женщин, учитывая их роль воспитательниц своих детей, писал Ф. Фенелон («De l’Education des filles» (1687)), его книга была переведена в России в 1763 г. И. Туманским и неоднократно переиздавалась.
В предисловии П. И. Свистунов описывает картину современных нравов: «…осно-вательницы нашего сердца сами воспитываются у нерадивых родителей без основания, да не имеют и способов получить онаго. От самых пелен отдаются на руки мамушкам и нянюшкам, которыя ни в чем ни ма-лейшаго понятия не имеют, которыя кроме вкоренившагося невежества, затверделаго суеверия, простонародных врак и нелепых басен, ничево не разумеют, которые вместо добродетелей впечатлевают во младенческой их разум такия неистовства, какия только им одним и их состоянию свойственны, которыя на конец приучают молодое их сердце к таким вредным склонностям, от коих оне во всю их жизнь бывают нещаст-ливы. Такия воспитательницы не исправляют, но портят: не просвещают, но помрачают: не устанавливают в них природных дарований, но развращают оныя и доводят иногда до тово, что уже все способы ко исправлению их сделаются безполезными и недостаточными. Поздно уже приметят нерадивые родители, что дети их безпутны, поздно опомнятся, что французской или немецкой язык уже не помогают, что оне ветрены и злонравны и на русском и на французском и на всех языках <…> Такой неполезности, такова вреда ожидать должно общество от худаго женщин воспитания!» [Бомон, 1788. С. 11–13]. Он признает, что своими обличениями может огорчить «разумных и попечительных родителей, которые до сего зла не допускают», а также тех, кто «меньше о дочерях, нежели о сыновьях, имеют попечения; а тех и еще больше, которые ни о сыновьях, ни о дочерях не помышляют», но, как он пишет: «…я не столько опасаюся их гнева, сколько сожалеть буду о том, ежели мое усердие к обществу не будет иметь желаемаго успеха» [Там же. С. 17].
П. И. Свистунов видит своих единомышленников в тех женщинах, которые праздности предпочтут «важную должность воспитания детей», «благородные люди никогда не отрекутся от дела толь благородна-го». Значение своего труда он видит в том, что «учащие могут в ней довольно сыскать хороших примеров для воспитания детей своих, а учащиеся могут прочесть с удовольствием [Там же. С. 17]. Таким образом, книга была предназначена не только детям, но и родителям и воспитателям.
В «Детском училище» Бомон сказки играли немаловажную роль. Основанные на мотивах волшебных сказок, где присутствуют перевоплощения, сложные испытания и трудные задачи, помощники и предметы, имеющие символическое значение, эти сказки педагогического предназначения отличаются ярко выраженным морализаторством. Мораль определяет специфику образа, конфликт, смысловые акценты и финал. В сказках есть аллегории, характерные для литературной сказки, говорящие имена, а также философский подтекст и свойственное роману воспитания нравственное становление героев, которое, впрочем, описано схематично. Добродетель, кротость, терпение, трудолюбие всегда вознаграждаются, а порок наказывается.
Сказки «Красавица и зверь», «Вдова с дочерьми» имеют в основе этические коллизии, в которых отразились особенности своего времени, однако они не в такой мере, как остальные сказки, прикреплены к своему веку. Из пяти сказок лишь «Красавица и зверь» не только пережила свое время, но и приобрела мировую славу, она имеет множество переложений и интерпретаций. В других сказках развиваются и обсуждаются идеи, актуальные для века Просвещения: воспитание будущих добродетельных пра- вителей, их судьба, которая трактуется как следствие воспитания и поступков, акцент делается на качествах, которыми должны обладать королевские дети, чтобы быть достойными своего высокого положения, обсуждается проблема выбора, приводящего к счастью или несчастью, особое внимание уделяется отношениям с подданными.
В сказках «Принц Милобраз» и «Принц Любим» образы добрых помощников, известных в народных сказках, имеют просветительские коннотации: они превращаются в наставников, которые оберегают главных героев, дают советы, помогают выбрать верное решение, найти истинный путь.
В первой сказке в виде аллегории и антитезы раскрывается истинное величие правителя. Принц Милобраз, ослепленный красотой девушки, которую звали Истинная слава, за три года должен был доказать, что он достоин стать ее супругом. Его соперником был принц Самовласт. Возвратившись домой, принц Милобраз вспомнил, что он об Истинной славе слышал еще раньше от своего надзирателя, и решил его вернуть ко двору, чтобы он его научил, как «угождать ей надобно» (его надзиратель был «больше добродетелен и строг, нежели надобно было, ибо он, любя своего государя, истинно напоминал ему часто о его должности»). «Честной Добросерд заплакал с радости и начал говорить королю: “Как я доволен, Государь, что я опять сюда возвратился! Без меня лишилися бы вы может быть нареченной вашей невесты. Я хочу вас в том предупредить и доношу, что она имеет сестру, которая называется Ложною славою, сия гнусная женщина несравненно хуже лицом сестры своей Истинной славы, но она лицо свое раскрашивает им тем гнусность онаго скрывает”» (Тих. № 61. Л. 6). Принц Ми-лобраз был в отчаянии, поскольку не мог он одержать многих побед, так как его подданные были грубы и невежественны. Именно Добросерд напомнил ему те наставления, которые давал он ему ранее: чтобы сделаться величайшим в свете государем, «для сего потребно только то, чтоб быть справедливым и добродетельным человеком. Сим только одним способом можно получить принцессу Истинную славу, а те, которые стараются завоевать соседственными государствами, или для сооружения великолепных замков, для умножения прекрасных одежд и драгоценных камней, собирают до- ходы в своего народа, обманываются и вместо Истинной славы находят Ложную» (Тих. № 61. Л. 7 об.).
После того, как принц Милобраз исправил многие пороки подданных, «к роскошам склонности», победил «последнего неприятеля» – свой гнев, стал «воздержан и кроток», тогда он получил руку Истинной славы. Он оставил свое жизнеописание, в котором утверждал, что «один только способ есть получить Истинную славу, то есть: стараться быть добродетельным и полезным своему народу и для произведения сего намерения с успехом непременно надлежит иметь искреннего друга» (Тих. № 61. Л. 12).
В сказке «Принц Любим» также противопоставляются воспитатель («дядька») принца Сулиман, который был его искренним другом, и ровесники принца, придворные, которые льстили принцу и провоцировали его на все большие злодеяния. Волшебница Кандида наказала принца, превратив его сначала в чудовище, затем по мере того, как он исправлялся, в собачку, а потом и в белого голубя. Пороки в сказках наказываются, а «доброе дело не остается без награждения». Принц Любим стал опять добродетельным, а Сулиман возвел его сам на престол и «был до смерти своей вернейшим подданным» (Тих. № 64. С. 12).
Как и мотивы превращения и волшебника-помощника, мотив чудесного подарка, распространенный в народных сказках, имеет свои особенности. Так, мотив чудесного кольца (551В* Чудесный перстень; 560 Волшебное кольцо) [Сравнительный указатель…, 1979. С. 156, 159] в сказке «Принц Любим» имеет следующую трактовку. Волшебница Кандида подарила принцу Лю-биму кольцо «драгоценнее, нежели все драгоценные камни», которое должно было уколоть его, если тот совершит «худое дело». Она предупредила, что если, несмотря на это, принц будет продолжать худое дело, то вместо друга он будет иметь в Кандиде «лютейшую злодейку». Кольцо кололо принца Любима часто, «тогда кровь текла из руки его». «Наконец наскучило ему это и он, вознамерившись совсем отдаться во власть своему злому нраву, сбросил кольцо и думал, что он всех щастливее на свете, что мог избавиться этой скорби» (Тих. № 64. Л. 5 об.). Затем последовало наказание, после которого он вновь стал добродетельным. В завершении сказки также есть упомина- ние о кольце: Любим царствовал со своей супругой Целией долгое время и «сказывают, что он так наблюдал свои должности, что кольцо, которое он опять надел на руку, больше одного раза до крови его не укололо» (Тих. № 64. Л. 17).
Сказки из «Детского училища» Лепренс де Бомон были широко известны. В главе «Спасская Полесть» в «Путешествии из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева напоминающая строгую волшебницу Кандиду странница, именующая себя Прямовзорой и глазным врачом, дарит правителю кольцо: «А дабы бдительность твоя не усыплялась негою власти, се дарую тебе кольцо, да возвестит оно твою неправду, когда дерзать на нее будешь» [Радищев, 1984. С. 144], это кольцо в конце главы названо «терновым кольцом»: «Я пробудился <…>. Еще не опомнившись, схватил себя за палец, но тернового кольца на нем не было. О, естьли б оно пребывало хотя на мизинце царей!» [Там же. С. 149]. То, что Прямовзора не уточняет, каким образом возвестит кольцо о неправде, свидетельствует о том, что читателям того времени эта аллюзия была понятна. Как представляется, образ кольца, подаренного Прямовзорой, является реминисценцией мотива из сказки Лепренс де Бомон. Последняя фраза автора «Путешествия…» отмечена иронией, подчеркивающей, что сон и сказка не имеют отношения к действительности.
«Детское училище» Лепренс де Бомон оказало влияние на сочинение А. Т. Болотова «Детская философия, или Нравоучительные разговоры между одной госпожою и ее детьми, сочиненные для поспешествования истинной пользе молодых людей» (Ч. 1–2. М., 1776–1779). Новая манера разговора с читателями была использована издателями журнала «Детское чтение для сердца и разума», в котором сотрудничал Н. М. Карамзин.
Оформление рукописей сказок в тетради Тих. № 61–65, состояние самих тетрадей, свидетельствующее об усердном чтении, позволяют предположить, что сказки были предназначены для частого и, возможно, чтения вслух. Они оторваны от непосредственного педагогического контекста «Детского училища» (рассказы на темы священной истории, географии и т. п., «разговоры») и обрели самостоятельное значение. Без обрамляющего сказки контекста ярче выделя- ются морализаторское начало и просветительские идеи. Изображение этических коллизий и наглядные примеры добродетельных поступков и злых дел обращены к читателю и слушателю и рассчитаны на их реакцию.
Этот случай интересен тем, что мы имеем дело с созданием нового «читательского» цикла на основе цельного педагогического сочинения Лепренс де Бомон. Циклизация произведений в рукописных сборниках XVIII в. является актуальной тенденцией, свидетельствующей о кристаллизации читательских интересов, о критическом отношении к чтению. Во второй половине XVIII в. все большее распространение получают сборники, в которых выдержаны тематический и жанровый принципы. Процесс циклизации в рукописной книжности можно описать так: от цикла к тематическому сборнику [Фокина, 2005. С. 100]. Как представляется, появление своеобразного «несобранного» цикла сказок в пяти тетрадях коррелирует с процессами, которые наблюдаются в печатной литературе того времени. В русской литературе последней трети XVIII в. происходит становление жанра литературной сказки, начиная с 60-х гг. XVIII в. появляются произведения, в которых сказка играет сюжетообразующую роль («Пересмешник» М. Чулкова, «Русские сказки» В. Левшина, «Славянские древности, или Приключения славянских князей» М. Попова), появляются сборники сказок («Лекарство от задумчивости» и др.). Выходят издания сборников сказок Лепренс де Бомон на французском языке («Contes mo-raux», 1774, 1776). Таким образом, сказки Лепренс де Бомон, основанные на фольклорных мотивах, но обогащенные просветительской проблематикой и образностью, нашли своего ценителя среди русских чита- телей, создавшего тематический цикл в русле тенденции, которая была актуальна в печатной литературе своего времени.