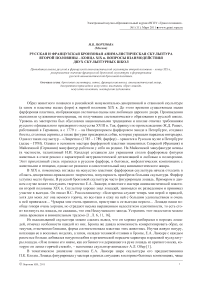Русская и французская бронзовая анималистическая скульптура второй половины - конца XIX в. Вопросы взаимодействия двух скульптурных школ
Автор: Портнова Ирина Васильевна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Искусствоведение
Статья в выпуске: 1 (11), 2011 года.
Бесплатный доступ
Проводится анализ русской и французской анималистической скульптуры второй половины - конца XIX в., раскрывается значение французской бронзовой скульптуры в формировании русской анималистической бронзовой пластики.
Бронзовая скульптура, литье, французская школа, анималистический жанр, декоративно-прикладное искусство, выставки, образ лошади, искусство пластики, мастерская художника
Короткий адрес: https://sciup.org/14821614
IDR: 14821614
Текст научной статьи Русская и французская бронзовая анималистическая скульптура второй половины - конца XIX в. Вопросы взаимодействия двух скульптурных школ
Образ животного появился в российской монументально-декоративной и станковой скульптуре (а затем и пластике малых форм) в первой половине XIX в. До этого времени существовала малая фарфоровая пластика, изображающая охотничьи сцены или любимцев царского двора. Произведения выполняли художники-иностранцы, не получившие систематического образования в русской школе. Уровень их мастерства был обусловлен национальными традициями и вполне отвечал требованиям русского официального придворного искусства XVIII в. Так, француз по происхождению Ж.Д. Рашет, работавший в Германии, а с 1779 г. – на Императорском фарфоровом заводе в Петербурге, создавал бюсты, столовые сервизы, а также фигурки придворных собак, которые украшали парадные интерьеры. Одна из таких скульптур – «Левретка» (1785 – 1789, фарфор) – хранится в Русском музее в Петербурге (далее – ГРМ). Однако в основном мастера фарфоровой пластики знаменитых Севрской (Франция) и Майсенской (Германия) мануфактур работали у себя на родине. На Майсенской мануфактуре немцы (в частности, талантливый И.И. Кендлер) создавали для украшения столов фарфоровые фигурки животных в стиле рококо с характерной натуралистической детализацией и любовью к полихромии. Этот прихотливый стиль отразился в русском фарфоре, в бытовых, мифологических композициях с животными и птицами, однако не развился в самостоятельный вид анималистического жанра.
В XIX в. поменялись взгляды на искусство пластики: фарфоровая скульптура начала отходить в область декоративно-прикладного творчества, популярность приобрела большая скульптура. Фарфор уступил место бронзе. В русской бронзовой скульптуре часто фигурировала лошадь. Примером в данном случае может послужить творчество Е.А. Лансере, известного мастера анималистической пластики второй половины XIX в. Скульптор хорошо знал лошадей, занимался их разведением и принимал участие в выездах. Он писал В.С. Россославскому: «Болгарочка служит теперь мне верой и правдой, хотя для моих лет она немного горяча, но все-таки я езжу на ней с большим удовольствием и очень к ней привязался… Чуварка мне очень нравится, приступаю к ее выездке верхом… Лошади наши вообще говоря очень хороши, но страдают весьма выраженным недостатком однотипности, то есть стоит взглянуть на лошадь, не скажешь, что она Нескучанского завода. Устранить этот недостаток можно лишь временем и внимательным трудом» [1. Л. 6, 11, 16].
Из высказываний скульптора можно сделать вывод, что он хорошо разбирался в породах лошадей, отмечал особенности каждой из них. Бронза же давала возможность конкретизировать образ, ее текучая, отмеченная бликами, форма соответствовала пластике этих животных. Изучая живую натуру, воплощая ее в восковых моделях, а затем, овладев техникой отливки в бронзе, Е.А. Лансере с каждым разом все больше добивался натуроподобия в органической передаче характера и красивой мускулатуры лошади. «Я не помню его иначе, как согбенного и державшего в руке лошадь из крепкого воска, которую он лепил горячей стекой», – вспоминал скульптор-анималист А.Л. Обер [1].
В тематическом диапазоне пластика Е.А. Лансере шире скульптуры его предшественника П.К. Клодта. Лошадь фигурировала у мастера в разных ситуациях в историко-бытовых композициях, чаще групповых: в сценах охоты, знаменитых тройках, этнографических мотивах. Е.А. Лансере точно подмечал характер движений животного: в одних композициях – быстрых и замедленных, в других – напряженных и легких. В этом отношении ни один скульптор не был таким разносторонним и осведомленным в области анатомии лошади. Е.А. Лансере представлял как верховую, так и упряжную лошадь: «Арабская кобыла с жеребенком Медже» (Музей коневодства, Москва), «Карабаирская лошадь под седлом» (Музей коневодства, Москва), «Лошадь Ажурная» (1886, ГРМ), «Скачки с препятствиями» (1882, ГРМ), «Киргизский косяк на отдыхе» (1880, ГРМ, все бронза, литье).
Несмотря на то, что большинство произведений создавалось на заказ, они были свободны от канона. Е.А. Лансере одним из первых обратился к теме тройки в скульптуре. «Следует отметить, – писал Е. Шмидт, – что “тройки” неоднократно встречаются в прикладном искусстве, в творчестве народных резчиков, – в изделиях из кости, деревянных игрушках и т.п. Во второй половине XIX века вместе с развитием жанровой скульптуры “тройки” начинают появляться и в виде бронзовых изваяний» [2. Л. 5]. В «Деревенской тройке», «На санях», «Тройке» Е.А. Лансере внимание зрителя приковывают динамичные позы лошадей, которые трактуются смело и свободно. Большей динамикой и экспрессией отмечены также «тройки» В.Я. Грачева: «Тройка у верстового столба», «тройка с ямщиком», «Тройка лошадей», «Тройка». Мастер точно уловил пластику движущихся лошадей, всех выпуклостей и впадин текучей бронзы.
Скульпторы-анималисты отводили технике литья почетное место. Так, характеризуя творчество Е.А. Лансере, Н.П. Собко отмечал: «Cкульптуре нигде не учился, но посещал в качестве любителя мастерские художников, в особенности покойного Либериха. Затем бывал три раза за границей, а именно два раза в Париже в 1867 и 1876 г. с целью ознакомления с музеями и галереями, а также с отливкою художественной бронзы» [3. Л. 6].
Французская бронза того времени дала прекрасные образцы анималистической пластики, на которую ориентировались русские скульпторы. В связи с популярностью жанровой скульптуры в России широкое распространение получили частные бронзолитейные фабрики и мастерские (К.Ф. Верфеля, Ф. Шопена, А.П. Морана), в которых отливались скульптуры известных мастеров русской и европейской (в частности, французской) школ. Так, в большом количестве были отлиты анималистические скульптуры по моделям П.Ж. Мена, Ж. Муанье, А.Л. Бари, П.А. Делапланша, А. Дюбюкана, А.А. Арсона, Ш. Вальтона, А. Тродо, О.Н. Кена, Ф. Потро, Ф. Картье, А.П. Ришара, изображающим сцены охот. Животные показывались во всем многообразии их характеров, драматических отношений. Тщательно моделированные, отточенные по лепке модели французских мастеров хорошо воспроизводились в прочеканенных формах бронзы (работы А.Л. Бари, П.Ж. Мене, П.А. Делапланша, А. Дюбю-кана).
А. Бари предпочитал изображать драматические сцены, борьбу между животными. Он был основоположником этой линии анималистики во французском искусстве, отражая в барочной пластике стихию природы и жесткость инстинктов. Анатомически преувеличенные тела хищников (чаще кошачьих – львов, пантер, тигров) выглядят в его творчестве почти геральдическими, становятся символами суровой звериной жизни. Сцены, исполненные природной экзотики, должны были привлечь внимание французской публики. Так сформировалось романтическое направление в анималистике.
П.Ж. Мене, Ж. Муанье, А. Дюбюкана и других мастеров художественной бронзы не привлекали гиперболизированные формы скульптур А. Бари. У них «охоты» и сцены противоборства зверей стали более естественными (работы Ж. Муанье «Цапля» (1880-е), «Собака пойнтер» (1870 – 1880-е); А. Дюбюкана «Охота на страуса в Сахаре» (1876); А.А. Арсона «Ястреб» (1870 – 80-е), П.А. Делап-ланша «Олень и собаки» (1860-е)). Скульпторы Ж. Муанье, Ф. Картье, А.П. Ришар, Н. Кен уделяли большое внимание изображению охотничьих собак, верно трактуя внешние особенности и характерные позы этих животных. Композиции, изображающие животных и птиц в природной среде, отличаются большей декоративностью и узорностью («Семейство куропаток» (1870-е), «Кулик» (1860-е) А.А. Арсона; «Бекас» (1870-е) А. Тродо, «Туруханы» (1860 – 1870-е) Ф. Потро; «Куропатка» (1870-е)
А. Дюбюкана). Особой популярностью пользовались работы ученика знаменитого А.Л. Бари скульптора-анималиста П. Ж. Мене, которому удавалось передавать естественность движений животных в бесхитростных, лаконичных по формам сюжетах, создающих впечатление целостного образа. Модели скульптора отливались на бронзолитейной фабрике братьев Сюсс в Париже, которая получила широкую известность не только во Франции, но и за ее пределами.
Композиции П.Ж. Мене отличаются естественностью, характерностью типов зверей («Собака со щенками» (1840-е), «Козлики» (1840-е), «Охота» (1870-е), «Коза» (1840-е), «Псовая охота» (1847), «Кабан, затравленный собаками» (1846)). Скульптура «Собака со щенками», выполненная почти в натуральную величину, отличается особой цельностью и психологизмом. Мастер точно передал позы кормящей собаки и щенков. Легко патинированная бронза придает телам животных естественный отлив и округлость форм. Здесь сказался опыт П.Ж. Мене в собственноручной отливке моделей, их чеканке и способов наложения патины. Скульптура лишена излишней детализации, характерной для некоторых работ мастера, в частности, сцен охот. Драматические и несколько романтизированные «охоты» не столь интересны в творчестве П.Ж. Мене. Они близки к трактовке «драм» его учителя А.Л. Бари. В скульптурах, изображающих одних животных, больше чувства и живого наблюдения. Общая декоративность композиций, свойственная французской бронзе, сочетается с поэтичностью и естественностью. Эти качества произведений П.Ж. Мене восприняли русские мастера второй половины XIX в. Их работы отличались высоким уровнем художественного литья, наложением мягкой патины. В четкой лепке объемов, композиционном решении произведений, включавших элементы естественной среды (трава, камни, кусты), создававших художественный образ природного мира, прослеживается эстетика французской школы анималистической пластики. Тематика произведений, общий декоративный строй композиций, стремление к передаче реальности и правдоподобия – эти качества были близки стилистике работ Е.А. Лансере.
Образцы камерной анималистической скульптуры французских мастеров, отличающиеся высокой пластикой бронзового литья, пользовались популярностью и за пределами страны. Иногда сами мастера (П.Ж. Мене, А.Л. Бари, Ж. Муанье) отливали свои произведения на бронзолитейных предприятиях Франции, производя чеканку бронзовой поверхности, используя разнообразные способы наложения патины. Так, отец Ж. Муанье, боготворивший сына, открыл в самом центре Парижа литейный цех и сам отливал его изделия. Отец и сын сделали друг друга известными. До сих пор коллекционеры стремятся заполучить скульптуру, на которой стоит клеймо «Муанье от Муанье».
Произведения французских мастеров, которые способствовали распространению бронзовой анималистики в России, представляли художественную интерпретацию реальности сквозь призму взаимоотношений человека и природы. Кроме того, французская бронзовая анималистическая скульптура с ее охотничьими сюжетами была интересна в России – стране с давними традициями национальной охоты. С появлением русских мастеров, успешно работавших в области камерной скульптуры, владельцы бронзолитейных мастерских стали отдавать предпочтение отливке произведений национальной тематики, постепенно отступая от традиций французских мастеров с их дробностью форм и смешением стилей. Еще в середине XVIII в., во время царствования императрицы Елизаветы Петровны, остро встал вопрос об отечественных мастерах художественной бронзы. Это было обусловлено в первую очередь политическими соображениями. Россия стала крупнейшим государством, могучей империей, влияющей на всю европейскую политику, главным соперником королевской Франции за первенство в Европе. Петербургский двор соперничал с Версалем, и, чтобы усилить знаковый образ могущества российского государства, дворцовые интерьеры необходимо было дополнить художественными изделиями из бронзы. Русская художественная бронза должна была заменить привозную французскую, подчеркнуть абсолютную независимость России от Франции, которая в то время считалась лидером в производстве художественной бронзы. Для формирования отечественного кадрового корпуса мастеров художественной бронзы в Петербургской Императорской академии художеств в дополнение к художественным классам были учреждены классы художественного ремесла. В 1760 г. открыли класс
«статуйной» и орнаментальной скульптуры, где готовили специалистов по формовке, литью и чеканке художественных изделий из бронзы.
Екатерина II в начале правления предприняла шаги по укреплению позиций национальной школы художественной бронзы, возложив на Императорскую академию художеств обязанность обучения мастерству обработки бронзы. В 1764 г. специалистов по художественной бронзе стали готовить в специальном классе орнаментальной скульптуры, который выделили из скульптурного класса. В 1769 г. произошло событие, ставшее рубежным в истории русской художественной бронзы: из класса орнаментальной скульптуры выделился специализированный класс формовального, литейного и чеканного дела, ставший главной базой подготовки высокопрофессиональных русских бронзовщиков. При классе работала литейная мастерская, «литейный дом», где русские ученики получали практические навыки художественного литья из бронзы. «Литейная мастерская Академии стала одной из главных достопримечательностей столицы; в нее входили, как в театр, чтобы полюбоваться захватывающе интересным процессом отливки», – отмечал В.Г. Лисовский [4. Л. 58 – 59].
Анималистический образ в бронзе и чугуне получает широкую интерпретацию у скульпторов-анималистов и мастеров, в творчестве которых образ животного не являлся главным персонажем (Р.Р. Бах, Р.К. Залеман, Ф.Ф. Звездин, Е.П. Илинская и др.). Многие произведения успешно отливались на Каслинском заводе художественного литья, который к концу XIX в. стал одним из ведущих центров по выпуску художественных изделий из бронзы и чугуна не только на Урале, но и во всей России. В Петербурге широкое распространение получили бронзолитейные мастерские А.П. Морана, Ф. Шопена, П.А. Овчинникова, в которых Е.А. Лансере отливал свои работы, и они «увековечивались в прочном материале и получали широкое распространение как в России, так и за границей» [2. Л. 6 – 7]. По поводу отливки скульптур у Ф. Шопена Е.А. Лансере писал: «Я вылепил Шопену 6 вещей: Кабан и два ослика, Араб на ослике, Верблюд, Маленький всадник, Араб на муллах, большая фигура араба верхом с двумя соколами на руках… Статуэтка “Скобелев на коне” уже окончена и отдана в полную собственность Шопену…» [1. Л. 28]. В этих композициях Е.А. Лансере выступал как художник-рассказчик. Это определение не исчерпывает всех нюансов сцен, но передает главное в них.
В.Я. Грачев постигал науку чеканки и литья из бронзы на собственном опыте, работая чеканщиком на ювелирных фабриках и фабриках художественной бронзы Петербурга (К.Ф. Верфеля, П.А. Овчинникова, И.П. Хлебникова), под маркой которых известно большинство его произведений, переведенных в серебро и бронзу. В 1885 г. он открыл собственную мастерскую-студию. Как автор образцов для художественной промышленности пользовался известностью В.С. Бровский. Его бронзовые скульптуры лошадей создавались для Московского скакового общества.
Н.И. Либерих, другой крупный представитель анималистики того времени, будучи большим любителем охоты, предпочитал изображать в бронзе собак и диких зверей. Фигурировала в его композициях и лошадь, но только выставочная, верховая. Вот что об этом пишет Я.И. Бутович: «Либерих преимущественно, если не исключительно лепил верховую лошадь, как кавалерист он знал ее лучше и больше любил, нежели лошадей других пород. Верховая лошадь времен Либриха была чрезвычайно породна, кровна, суха, но чересчур миниатюрна, чересчур нежна. Это был идеал лошади смотровой, для манежа, который тогда процветал для покорения дамских сердец… Вот этим типом лошади Либерих увлекался… Вследствие этого, по его статуэткам верховых лошадей можно составить наглядное представление о верховых лошадях того времени и в этом отношении творчество Либериха имеет свое историческое значение» [5. Л. 76]. Н.И. Либерих хорошо знал охотничьих животных. Он «был страстным охотником, вот почему охотничьим сюжетам он отдавал предпочтение. Лошадей он хотя и любил, хотя и знал и как кавалерист имел возможность постоянно их наблюдать, но любил их все же меньше, чем собак. Отсюда его собаки выше лошадей» (Там же. Л. 75), – писал Я.И. Бутович. Охотничьи животные представлены в произведениях «Бегущий олень» (1853, ГРМ), «Медведь» (1865, Государственная Третьяковская галерея – далее ГТГ), «Волк, попавший в капкан» (1861, ГТГ), «Густопсовая борзая Славный» (1874, ГРМ), «Легавая собака пойнтер держит в зубах убитого дупеля» (1863, гипс, ГРМ), «Собака, делающая стойку» (1866), «Собака (лежащая)» (1860, ГТГ), «Стремянный с борзыми» (1861), «Баба верхом» (1866) и др.
Изобразительная манера бронзовых скульптур Н.И. Либериха близка работам Е.А. Лансере. Произведения имеют станковую форму, приближаясь своей детализацией к малой пластике. Однако композиционные приемы у Н.И. Либериха проще. Он изображает стоящих, идущих, бегущих одиночных животных. Бытовые сюжеты не вызывали у него интереса, зато полноценное в своей звериной сущности животное трактовалось Н.Е. Либерихом любовно и скрупулезно. В частности, зритель получает возможность познакомиться с породами охотничьих собак. Так, в скульптуре «Густопсовая борзая» мастер подчеркнул поджарую фигуру быстробегающей собаки, а в скульптуре «Легавая собака пойнтер» он прекрасно уловил характер чуткого на добычу животного. В изображении других животных Н.И. Либерих также точен и наблюдателен. Острый взгляд охотника позволял ему подметить характерность всех поз, поворотов и движений зверей.
В духе времени и манере, традиционной для скульптуры второй половины XIX в., работал А.Л. Обер. Он изображал диких и домашних животных, птиц, мотивы охот, охотничьих и ездовых собак, представлял их в разных ракурсах, в однофигурных или парных композициях. Наряду с Е.А. Лансере, А.Л. Обер изображал всадников: «Туркмен на коне» (1875, ГТГ), «Киргиз, закуривающий трубку» (1872, чугун, ГРМ). В стилистическом плане произведения А.Л. Обера близки работам Е.А. Лансере. «Однородность скульптуры и живописи все теснее меня связывали с Евгением, – вспоминал А.Л. Обер [6. Л. 105]. Примером точной передачи движения может служить «конный портрет князя Дмитрия Константиновича». Сам «Дмитрий Константинович, как кавалерист, настолько одобрил посадку его изображенную на коне, что сказал, что через 2000 лет, если коней более не будет, то моя фигура покажет как историческое прошлое конного всадника» – писал А.Л. Обер (Там же. Л. 157). Однако скульптора больше привлекало действие с передачей экспрессии: даже в изображении мирных животных (играющих, сидящих, идущих) ощутимо напряжение, усиленное детальной проработкой форм («Белый медведь», «Играющая кошка», «Борзая», «Медведица», «Шимпанзе»).
Перед глазами зрителя разворачивается стихия звериной жизни, в которой свои законы выживания. А.Л. Обер так описывает свою скульптуру «Тигр и силай»: «Держит тигр в когтях поваленного человека, и пошел этот человек на охоту тигра поживиться его шкурою, а потом сам ему в когти, так и я целых два года истомился высматривая сей царской дичи» [7]. Еще один пример. В основу произведения «Бык-победитель» был положен реальный сюжет. А.Л. Обер вспоминает: «Я лепил быка “Солнышко” швейцарской породы мышиного цвета с белой полосой на спине. Пастух однажды в полдень, чтобы вызвать его из сарая, стал звать его, предлагая ему обманно вместо хлеба кусок дерева. “Солнышко” недолго думая, не вонзил в него рога, но подхватил его, как на ладони, швырнул вверх, причем пастух сделал невольное сальтомертале и упал изорванный; мы все охнули; бык с сизыми глазами приподнял голову, гордо торжествовал, а пастух, уже не молодой, что за чудо богатырь, взял валявшийся кусок дерева и стал неистово бить по ребрам победителя, так что тот скоро удрал в сарай. Поистине, насколько дух выше плоти. Я так и изобразил его, но не с пастухом, а с волком, им побежденным» [6. Л. 107].
По мироощущению произведения А.Л. Обера близки барочным творениям французского скульптора-анималиста XIX в. А.Л. Бари, который был сосредоточен на битвах животных, их взаимных преследований. В Париже А.Л. Обер познакомился с А.Л. Бари и «знал его как преподавателя лепки и рисунков в зоологическом саду». «Но что за учитель! – вспоминал скульптор, – в скромности и самоунижении редко такого найти, казалось, он краснел при проверке наших ученических работ, голос его был наитишайший и модели зверей в его школе были все, кроме его собственных произведений. Ему как будто совестно было ставить свои произведения как образец преподавания. И вот в этом тихом почему-то зародилась страсть и удивительное понимание хищной и свирепой львиной породы. Сколько я видел львов до Бари – все они были ради гривы: лев, а не собака. Первое, что бросается в глаза – это именно лев по существу своему, и когда таковым уже впечатлишься, что он из бронзы и формы, походка, повадки – все есть жизненная натура, как бы пахнет зверем» [6. Л. 37].
Скульптуру А.Л. Обера нельзя назвать барочной в полном смысле слова. Некая барочная экспрессия сочетается у него с чрезмерной детализацией, словно художник желает увековечить зверя во всей его подробной наглядности и характерности. Создается впечатление, что скульптор воспринял несколько натуралистическую манеру моделировки у своих коллег – западных анималистов-иллюстраторов XIX в. В своих воспоминаниях А.Л. Обер рассуждает о методе работы скульптора, о значении эскиза. Он отдавал предпочтение законченной работе с тщательной проработкой всех форм и деталей: «Все прошлое в искусстве, в его шедеврах показывает вполне доконченную работу. В воплощении эскиза, наброска художник воплощает свою духовную мысль, затем дорабатывает до формы более совершенной, до окончательного исполнения. Эскиз сам по себе необычно драгоценен. И он вполне определяет мысль художника, но должно ли искусство остановиться только на этой фазе творчества? Эскизы набрасываются не только заправскими художниками, но и любителями, способными очень сильно выражать свою мысль, но последний, как и средней руки художник не имея знания даже наброска, не в состоянии идти и почти не узнаваем в доконченной работе по слабости исполнения ее. В таком только смысле эскиз важнее законченной работы, а не в том, что работа законченная не удовлетворяет… Теперь в моде ничего не доканчивать. В скульптуре между долизанностью и наброском громадная разница, но все же это не живопись, и кляксами работать нельзя, в скульптуре только и есть одна форма для выражения обдуманного… Ссылаясь на образчики бывших школ скажу: «усовершенствуйтесь и не оставайтесь на степени эскиза или незаконченной работы, подтверждающей только неумелость неудачника» (Там же. Л. 141, 143).
Законченность художественного образа у А.Л. Обера соотносима с точной фиксацией всех внешних деталей. В этом он видит передачу типичного в образе: «… для более подчеркнутой характеристики я придал ему все мое знание касательно внешних деталей» (Там же. Л. 176). Следует учесть, что А.Л. Обер не получил профессионального художественного образования, хотя любовь к рисованию у него проявилась рано. Он вспоминал: «Мне было пять лет, когда я смастерил рисунок по впечатлению с натуры, уцелевший почти единственный образчик того детского времени. Рисунок изображал козу, запряженную в тележку, где кучером была обезьяна, а седоки наряженные собаки. Пока я учился дома, я все время рисовал от себя и с оригиналов, я помню даже, что я сочинял картинки для каких-то немецких басен. Я только это и делал, что лепил и рисовал. Когда мне было 8 лет, я нарисовал 48 охот в одной тетради» (Там же. Л. 6, 10). Желание А.Л. Обера стать художником было велико: «Я написал матери письмо не от юноши, а от созревшего человека… призывал Богородицу и всех святых и грозил сделаться простым метельщиком улицы, если мне не дадут разрешения сделаться художником» (Там же. Л. 31). В 1856 г. молодой А.Л. Обер поступил в Петербургскую Академию художеств. Он быстро почувствовал силу в изображении животных: «В рисовальных классах давались вертикальные доски с глиной, и на них лепили мы с греческих оригиналов, но так как я скоро работал, и скоро, нежели приходил Клодт, тоя на другой день под диктовку немногочисленных товарищей лепил то голову клячи. То голову коня, но не смел того показывать профессору, но впервые я чувствовал по работе, что я как рыба в воде, все мне легко, доступно, угнетения духа не было, голова моя мыслящая не была в тисках» (Там же. Л. 31). А.Л.Обер совершенствовал свое творчество в зоологическом саду Парижа. Он вспоминал: «Шел утром в зоологический сад, после завтрака шел в Лувр рисовать с антиков, в промежутках методично изучал дивный луврский музей, затем обедал и вечером шел на вечерние занятия в школу декоративного искусства» (Там же. Л. 52, 53). Скульптор с большим восторгом отзывался о зоосаде: «Первое, что меня поразило, так это зоологический сад. Что за богатство и что за разнообразие: поистине тут сосредоточена вся зоология в живых зверях, а рядом богатейший зоологический музей» (Там же. Л. 42). «Вся зоология в живых зверях» прослеживается в работах А.Л. Обера. Художник скрупулезен в трактовке натуры – внешности и поведении животных. Однако точной натурной штудии в его работах нет: «Я никогда во всю свою деятельность не лепил в особенности зверей, сидя перед ними, достаточ- но мне было наблюдать, а главное впечатлиться характерными движениями, чтобы оно запечатлелось в моей памяти навсегда, я лишь зарисовывал в альбом штрихами детали, и уже сформировал его в своей мастерской. Понятно, что то, что только сразу запечатлелось в моем уме, недостаточно было перенести работу с одного только первого раза, мысленно обрисовался только каркас и движение, а детали требовали постоянного изучения» [6. Л. 6, 19]. Так, увлеченный образом льва, художник не раз изображал его в своих композициях («Подкрадывающийся лев», «Голова льва», «Лев, пожирающий газель», «Лев»). Рисунок А.Л. Обера «Лев в пустыне» (бумага, графитный карандаш, тушь, кисть, перо, ГРМ) обнаруживает знание художника своей модели. Анатомически прорисованная тоном фигура льва уже в рисунке воспринимается пластически и мыслится в объеме, вызывая аналогии с произведениями А.Л. Бари. Внимание к деталям быта зверей и позволило ему «выполнить большого льва, приобретенного Академией художеств для своего музея и за которого он получил большую серебряную медаль» (Там же. Л. 33).
Таким образом, за двадцать лет (с 1760 г. – времени организации самостоятельного класса «статуйной» и орнаментальной скульптуры – до начала 1780-х гг. – времени создания Казенной бронзолитейной фабрики) был заложен прочный фундамент школы русской художественной бронзы. К концу XIX в. русская бронзовая анималистическая скульптура достигла профессионализма. Русские мастера прекрасно знали все художественные и технические новации французской школы художественной бронзы. Первоначально, ориентируясь на творчество французских мастеров, русские скульпторы на собственном опыте овладевали секретами литья, чеканки и гравировки, использованием патины, что позволило им достичь впечатления необходимой декоративности и законченности произведений. В этом процессе анималистика стала визитной карточкой русской художественной бронзы, делая ее узнаваемой на всероссийских и крупных международных художественно-промышленных выставках второй половины XIX – начала XX в.
Список литературы Русская и французская бронзовая анималистическая скульптура второй половины - конца XIX в. Вопросы взаимодействия двух скульптурных школ
- Письма Лансере Е.А. Россославскому В.С. (16. VIII. 1877 -28.IX.1882)//Отдел рукописей Гос. рус. музея. Ф. 38. Д. 2. Л. 6, 11, 16, 28.
- Шмидт Е. Евгений Алесандрович Лансере (1954)//Рос. гос. архив литературы и искусства. Ф. 652. Д. 718. Л. 5 -7. 3. Русские художники XIX века. Иллюстрированный каталог. Скульптурная выставка Е.А. Лансере, А.Л. Обера/сост.
- Н.П. Собко. Спб., 1886//Отдел рукописей Рос. нац. библиотеки. Ф. 708. Д. 21. Л. 6.
- Лисовский В.Г. Академия художеств. Л.: Лениздат, 1982. С. 58 -59.
- Список художников-баталистов и скульпторов (рукопись Я.И. Бутовича). Описание коллекций музея коневодства//Архив гос. музея коневодства. Л. 75 -76.
- Обер А.Л. Воспоминания (май 1917 г.)//РГАЛИ. Ф.1956, е.х.13. Л. 6, 10, 19, 31, 33, 37, 42, 52 -53, 105, 107, 141 -143, 157, 176, 182.
- Обер А.Л. Письмо Кепперу (4.XII.1901)//Отдел рукописей Гос. рус. музея. Ф. 1. Д. 182.