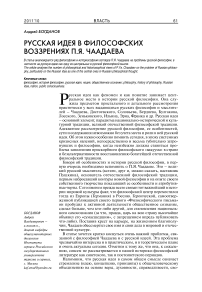Русская идея в философских воззрениях П.Я. Чаадаева
Автор: Богданов Андрей Владимирович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 10, 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется ряд философских и историософских взглядов П.Я. Чаадаева на проблемы русской философии, в частности на русскую идею как одну из центральных в русской философской мысли.
Философия, история философии, русская идея, нация, общественное сознание
Короткий адрес: https://sciup.org/170165605
IDR: 170165605
Текст научной статьи Русская идея в философских воззрениях П.Я. Чаадаева
Р усская идея как феномен и как понятие занимает центральное место в истории русской философии. Она служила предметом пристального и детального рассмотрения практически у всех выдающихся русских философов и мыслителей – Чаадаева, Достоевского, Соловьева, Бердяева, Булгакова, Лосского, Зеньковского, Ильина, Эрна, Франка и др. Русская идея – основной элемент, парадигма национально-исторической и культурной традиции, великой отечественной философской традиции. Адекватное рассмотрение русской философии, ее особенностей, сути и содержания невозможно без учета места и роли в ней русской идеи. Об этом нужно особенно помнить сегодня, в эпоху системных кризисных явлений, непосредственно и весьма губительно затронувших и философию, когда неизбежно должна ставиться проблема заполнения прискорбного философского «вакуума» в стране и безальтернативности восстановлению богатейшей отечественной философской традиции.
Говоря об особенностях и истории русской философии, в первую очередь необходимо вспомнить о П.Я. Чаадаеве. Это – великий русский мыслитель (кстати, друг и, можно сказать, наставник Пушкина), основатель отечественной философской традиции, первым набросавший контуры новой философии и на опыте своего собственного творчества показавший ее особенности и атрибутивные черты. С его именем прежде всего связан тот важнейший в истории мировой культуры факт, что философский центр переместился тогда из Европы (Германия) в Россию. Героической, самоотверженной публикацией своего первого «Философического письма» он пробудил к активной деятельности общественное сознание, сделал больше, чем кто-либо другой, для становления национального самосознания (за что, правда, царь на всю страну высочайше объявил его «сумасшедшим», с запрещением впредь публиковать что-либо). Поставив крест на карьере, на жизненном благополучии, Чаадаев обессмертил свое имя и свои дела в мировой и отечественной культуре.
В статье хочется кратко коснуться очень важной проблемы, связанной с философией Чаадаева и с русской идеей. Эта проблема чрезвычайно интересна и в практическом, и в теоретическом плане и очень актуальна сегодня. Отметим к тому же, что она, к сожалению, совсем не рассматривается в нашей историко-философской литературе как советского, так и постсоветского периодов.
Напомним, что русская идея в самом общем смысле означает стремление (идею, концепцию, принципы) к общечеловеческому объединению на основе веры, духовности, справедливости, сво- боды. Она возникает тогда, когда народы всего мира начинают даже не осознавать, а, скорее, предчувствовать необходимость, безальтернативность всемирному объединению народов в одно целое с единственной и главной целью – спасти человечество. Ее предпосылками является ряд факторов как объективного (географическое, геополитическое, геостратегическое положение стран; их разобщенность в социально-политическом, экономическом планах; национальная, этническая, религиозная, социально-психологическая разделенность; национально-государственная безопасность и др.), так и субъективного (основные принципы и ценности мировых религий, с их идеями единения, равенства, братства; озарения, посланные Провидением; развитие общественного, национального самосознания) характера.
Совсем не случайным является тот факт, что русская идея рождена именно русским народом, именно в России. Начало ее формирования, становления ее основных принципов и целей, направлений и форм деятельности по воплощению ее в действительность, складывания ее категориально-понятийного аппарата относится к началу ХIХ в.
Естественно, что Чаадаев как великий философ-первопроходец, мыслитель-новатор, гуманист, патриот, глубоко, но не догматически верующий человек не только не мог пройти мимо всего того, что связано с русской идеей, но и непосредственно впервые занялся ее разработкой. Нас не должно смущать, что Чаадаев не употреблял еще такого словосочетания как «русская идея», – дело не в понятиях и не в словах. Но суть, содержание, назначение ее, всемирно-историческую миссию русского народа и ее разностороннее обоснование впервые дал он, и в достаточно развернутом виде. Более того, именно русская идея легла в основу созданной им глубочайшей историософской системы, которая, в свою очередь, послужила разработке отечественной философской традиции, давшей России и миру видных его последователей – великих мыслителей, в частности, представителей религиознофилософского ренессанса России последней трети ХIХ – начала ХХ вв.и философии российского зарубежья ХХ в.
Постараемся предельно кратко обозначить лишь некоторые принципиальные, концептуальные моменты.
В русской идее в том виде, в котором она дошла до нас, – и передана нам для дальнейшего ее современного развития! – можно выделить несколько отправных фундаментальных моментов. Это – проблема «Запад – Россия – Восток»; отечественная традиция, специфика исторического пути России и метаморфозы ее места и роли в мире, среди других народов; духовные, общественно-психологические особенности русского народа как творца русской идеи; проблема сочетания русской идеи и веры, религии; философские основы русской идеи; ее безальтернативность; место русской идеи среди других форм общественного сознания и направлений человеческой деятельности; искажения и фальсификации русской идеи.
Самой непосредственной предпосылкой русской идеи послужило рассмотрение глобальной проблемы «Запад – Россия – Восток». Здесь пионером, безусловно, был Чаадаев. Еще в «Апологии сумасшедшего» (1837), по сути, посвященной разъяснению и развитию «Философических писем», он изложил основные свои идеи по этой проблеме: «Мир искони делился на две части – Восток и Запад. Это не только географическое деление, но также и порядок вещей, обусловленный самой природой разумного существа: это – два принципа, соответствующие двум динамическим силам природы, две идеи, объемлющие все устройство человеческого рода». Итак, проблема отношения Запада и Востока – действительно общемировая проблема, ибо принципы и идеи этих двух «порядков вещей», двух «динамических сил природы» объемлют «все устройство человеческого рода». Естественно, эти два мира имеют существенные различия в своем историческом развитии, в своей духовности: «Сосредоточиваясь, углубляясь, замыкаясь в самом себе, созидался человеческий ум на Востоке; распространяясь вовне, излучаясь во все стороны, борясь со всеми препятствиями, развивается он на Западе. Соответственно этим первоначальным данным естественно сложилось общество. На Востоке мысль, углубившись в самое себя, уйдя в тишину, скрывшись в пустыне, предоставила общественной власти распоряжение всеми благами земли; на Западе идея, повсюду распространяясь, вступаясь за все нужды человека, алкая счастья во всех его видах, основала власть на принципе права; тем не менее, и в той, и в другой сфере жизнь была сильна и плодотворна; там и здесь человеческий разум не имел недостатка в высоких вдохновениях, глубоких мыслях и возвышенных произведениях». В нескольких словах Чаадаев формулирует основные различия между Востоком и Западом. На Востоке мысль углубляется «в самое себя», уходит в «тишину», в «пустыню» (вспомним великое молчание Будды, учение Лао Цзы о неопределенном Дао), по видимому, совсем не интересуясь «общественной властью» и не вникая в ее практические дела. На Западе же идеи очень «практические» – они, прежде всего, имеют своим предметом «нужды человека» и устройство власти на «принципе права». Проще говоря, на Востоке – мысль, на Западе – дело, практический интерес, право. Чаадаев все более углубляет и конкретизирует именно духовные различия: «Первым выступил Восток и излил на землю потоки света из глубины своего уединенного созерцания; затем пришел Запад со своей всеобъемлющей деятельностью, своим живым словом и всемогущим анализом, овладел его трудами, кончил начатое Востоком и, наконец, воспринял все его достижения. Но на Востоке покорные умы, коленопреклоненные пред историческим авторитетом, истощились в безропотном служении священному для них принципу и в конце концов уснули, замкнутые в своем неподвижном синтезе, не догадываясь о новых судьбах, которые готовились для них; между тем на Западе они шли гордо и свободно, преклоняясь лишь перед авторитетом разума и неба, останавливаясь только пред неизвестным, непрестанно вглядываясь в безграничное будущее. И здесь они еще идут вперед…»1 Здесь тоже отметим несколько моментов, важных в философско-методологическом плане. Первым «выступил» Восток, залив всю землю светом своей глубинной, созерцательной мысли («С Востока свет»!), затем только «пришел» Запад, со своей «всеобъемлющей деятельностью» и «всемогущим анализом» (полное торжество рационализма!) и «воспринял» «достижения» Востока. Мир Востока, точнее – его ум, в молчании и «недеянии» «замкнулся», как бы «уснул» «в своем неподвижном синтезе», а западный «ум», со своим «живым», деятельным словом, как активный, не знающий преград руководитель шел «гордо и свободно» «вперед».
«Запад есть Запад, Восток есть Восток, и им не сойтись никогда», – утверждал английский писатель Р. Киплинг. У Чаадаева мы не найдем столь категорических заявлений, хотя различия Запада и Востока и по его наблюдениям чрезвычайно существенны. Но Чаадаев не торопится, как Киплинг, к однозначным и окончательным суждениям и выводам по поводу отношений Запада и Востока. Почему? Тому есть две причины – философско-методологическая и фактологическая.
Первая: Чаадаев не был, на западный манер, философом-рационалистом, обожествляющим всесильный, деятельный разум. (К началу ХIХ в. западноевропейский классический рационализм, прежде всего в лице великого Гегеля, уже обнаружил, хотя бы сперва в глазах наиболее проницательных мыслителей, свою несостоятельность и стал постепенно деградировать, распадаться. Чаадаев, будучи одним из крупнейших философов страны, в которую перешел мировой философский центр, конечно, сразу это обстоятельство уловил.) Он ориентировался на веру, духовность, чувство, сердце, озарение и стал первым нерационалистом. (Нерационализм не следует путать с иррационализмом. Западные иррационалисты – Шопенгауэр, Ницше, Гартман и др., разочарованные в рационалистической западной традиции в связи с ее кризисом, стремились ее кардинально преобразовать; таким образом, у них получился тот же рационализм, но как бы вывернутый наизнанку, представляющий вторую сторону все той же, по сути, «рационалистической медали», тогда как Чаадаев строил основание и закладывал традицию принципиально другой, новой философии.) Как философ-нерационалист, он не признавал однозначных, окончательных, категоричных, «предельно точных» оценок, суждений, выводов, дефиниций. Он не закрывал поставленную или анализируемую проблему с абсолютной категоричностью, определенностью, а оставлял ее неопределенной, открытой для дальнейших сомнений и исследований, что зачастую ставило и ставит его исследователей в тупик, вызывает недоумение. Поэтому критики часто называли Чаадаева беспринципным, непоследовательным, про- тиворечивым, двойственным, не завершающим определенно свои размышления и анализы. Но то, что вызывало у его критиков недоумение и раздражение, непонимание и неудовлетворенность, на самом деле являлось особенностями, атрибутивными качествами и чертами нового чаада-евского философствования, для которого «перерывы постепенности», «незавершенность», «незаконченность», «неопределенность», «открытость», «проблемность» (в смысле превалирования постановки проблемы перед однозначным и разовым ее решением) были обычным явлением, методологическими путями, методическими способами.
Вторая: Киплинг и другие, резко противопоставляющие два мира – Запад и Восток – как абсолютно противостоящие, противоположные друг другу, не замечали, игнорировали, иногда и высокомерно, третий мир, третью сторону проблемы – Россию . Этого, конечно, не мог допустить Чаадаев, видящий именно в России с ее великим народом и великого объединителя, и примирителя двух мировых порядков, решающего, в конечном счете, судьбы мира, спасающего человечество. И Чаадаев находит глубочайшие обоснования, аргументацию этого как объективного (материального), так и субъективного (идеального, духовного) порядка.
Спасения человечества от Запада ждать не приходится, от Востока – тоже. Попытки некоторых исследователей склонить Россию к идее следовать в европейском кильватере, целиком подражать Западу в выборе исторического пути и внутренних преобразований Чаадаев в принципе отвергает (хотя многие критики и считали его чистейшим западником). Отвергает он и возможные идеи подражания Востоку, сближения с ним на почве, к примеру, социальных реформ: «Мы живем на востоке Европы – это верно, и тем не менее мы никогда не принадлежали к Востоку. У Востока – своя история, не имеющая ничего общего с нашей». Так и получается, что на земле имеются не два, а три отличных друг от друга мира, которые неизбежно должны вступать между собой в те или иные отношения. С Западом и Востоком все более или менее ясно – это два в корне отличных друг от друга порядка вещей, в этом всеобщее мнение вроде бы едино. Но никто еще не задавался вопросами: а как быть с Россией? Какую роль она должна играть в «великом противостоянии»? К чему относится Россия – к Западу или к Востоку, к чему она ближе?
Чтобы попытаться ответить на эти сложные и судьбоносные вопросы, считает Чаадаев, необходимо обратиться к урокам истории и, что самое важное, рассмотреть ее с философских позиций: «Дело в том, что мы никогда не рассматривали еще нашу историю с философской точки зрения. Ни одно из великих событий нашего национального существования не было должным образом характеризовано, ни один из великих периодов нашей истории не был добросовестно оценен <…> пора бросить ясный взгляд на наше прошлое, и не затем, чтобы извлечь из него старые, истлевшие реликвии, старые идеи, поглощенные временем, старые антипатии, с которыми давно покончил здравый смысл наших государей и самого народа, но для того, чтобы узнать, как мы должны относиться к нашему прошлому»1. Для этого Чаадаев и разрабатывает философию истории, свою историософскую концепцию, призванную, прежде всего, открыть миру русскую идею. Еще раз повторим, что у Чаадаева нет еще этого термина, но он первым сделал основное, самое трудное и важное: раскрыл ее суть, содержание, цели, обосновал всемирно-историческую миссию русского народа по объединению человечества в решении общемировых проблем.
В статье мы также затронем некоторые принципиальные моменты историософской концепции Чаадаева, тесно связанные с нашей темой.
Обращаясь к отечественной истории, нельзя не заметить, что Россия отстала от своих западноевропейских соседей в некоторых важных областях, в частности в экономике, политике, социальных областях, в сфере прав и свобод человека. Это отставание Чаадаев не только не отрицал, но, пожалуй, иногда даже излишне резко подчеркивал и оценивал его (например, в «Философических письмах»), за что, в частности, на него и сильно обижались «квасные патриоты». Но, во-первых, отставание отставанию рознь: можно отстать, скажем, в социально-экономической области, но зато вырваться вперед в области духовной, нравственной (что, в конечном счете, важнее). А во-вторых,
Чаадаев совсем не случайно акцентировал внимание на необходимости рассматривать историю с философской точки зрения! И здесь, как философ, он пришел к очень интересным, важным и, как часто у него бывает, к парадоксальным выводам. Оказывается, и Провидение, и объективные, материальные обстоятельства «позаботились» весьма дальновидно об этой нашей «отсталости», которая в итоге превратилась в громадное наше преимущество, обеспечив величие России и всемирную мессианскую роль ее народа. Мы пришли на мировую арену, считает Чаадаев, позже других стран для того, чтобы «делать лучше их», чтобы видеть и анализировать весь их опыт и неизбежные ошибки и не повторять их у себя. Поэтому именно России выпадает роль разрешить все те общечеловеческие проблемы, над которыми безуспешно бьется Европа, и повести за собой весь остальной мир. Вот лишь некоторые свидетельства из первоисточников.
«Я полагаю, – пишет Чаадаев в «Апологии сумасшедшего», – что мы пришли после других для того, чтобы делать лучше их, чтобы не впадать в их ошибки, в их заблуждения и суеверия. Тот обнаружил бы, по-моему, глубокое непонимание роли, выпавшей нам на долю, кто стал бы утверждать, что мы обречены кое-как повторять весь длинный ряд безумств, совершенных народами, которые находились в менее благоприятном положении, чем мы, и снова пройти через все бедствия, пережитые ими. Я считаю наше положение счастливым, если только мы сумеем правильно оценить его; я думаю, что большое преимущество – иметь возможность созерцать и судить мир со всей высоты мысли, свободной от необузданных страстей и жалких корыстей, которые в других местах мутят взор человека и извращают его суждения». Здесь Чаадаев, подготавливая почву для русской идеи, обнаруживает попутно очень важную закономерность единой всемирной истории (кстати, о единстве мировой истории – важнейшем в методологическом плане тезисе – Чаадаев уверенно начал говорить едва ли не первым из всех философов!): превосходство, превалирование всемирно-исторического смысла (к примеру, возможности созерцать и судить мир со всей высоты мысли) над какими-то конкретно-историческими процессами и явлениями (например, вре- менным отставанием в каких-то конкретных материальных аспектах экономики, социальных отношений и т.п.). В итоге Чаадаев считает положение России «счастливым», ибо ее «мысль» свободна «от необузданных страстей и жалких корыстей», которые на Западе «мутят взор человека и извращают его суждения». А история пока что знает только один великий пример такой мысли – это русская идея! Опять же, кстати, Чаадаеву, а не Марксу принадлежит приоритет в открытии закономерности соотношения всемирно-исторического и конкретно-исторического.
Но Чаадаев в утверждении будущего величия России и ее всемирно-исторической миссии идет еще дальше: «Больше того: у меня есть глубокое убеждение, что мы призваны решить большую часть проблем социального порядка, завершить большую часть идей, возникших в старых обществах, ответить на важнейшие вопросы, которые занимают человечество. Я часто говорил и охотно повторяю: мы, так сказать, самой природой вещей предназначены быть настоящим совестным судом по многим тяжбам, которые ведутся перед великими трибуналами человеческого духа и человеческого общества». Такую высокую и притом строго обоснованную оценку мировых перспектив развития России не давал, пожалуй, никто и никогда!
Помимо духовных, интеллектуальных, философских обоснований русской идеи и мировой миссии России, Чаадаев затрагивал и обоснования объективные, так сказать, естественные. Мы имеем в виду здесь, прежде всего, то, что можно назвать фактором географическим, геостратегическим, геополитическим.
Ведь Россия имеет одно очень важное географическое измерение – это самая большая страна в мире (ее «громадность», как не раз подчеркивал Чаадаев, имеет в ее судьбе и судьбе всего мира особое, самостоятельное значение, накладывая существенный отпечаток на все ее дела и на все ее мысли), и раскинулась эта страна очень интересно и уникально – между Западом и Востоком, между Европой и Азией, составляя как бы мост между ними. А мост может или объединять, или разъединять два берега. Отсюда ясна всемирно-историческая роль России – объединителя, примирителя Запада и Востока, и никто и ничто не может заменить ее в этой мировой миссии.