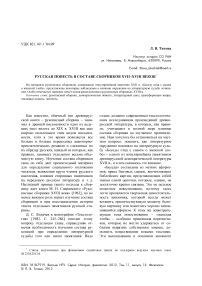Русская повесть в составе сборников XVII–XVIII веков
Автор: Титова Любовь Васильевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Древнерусский четий сборник:текст–контекст
Статья в выпуске: 12 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
На материале рукописных сборников, содержащих популярнейший памятник XVII в. «Беседу отца с сыном о женской злобе», представлены некоторые наблюдения о влиянии окружения на литературную судьбу сочинения. Особо отмечаетсязначение помет писца-ремесленника врукописных сборниках XVIII в.
Рукописный сборник, демократическая повесть, литературный цикл, трансформация жанра, писцовые пометы, читатель
Короткий адрес: https://sciup.org/14737701
IDR: 14737701 | УДК: 821.161.1’04.09
Текст научной статьи Русская повесть в составе сборников XVII–XVIII веков
Как известно, обычный тип древнерусской книги – рукописный сборник – занимал в древней письменности одно из ведущих мест вплоть до XIX в. XVIII век еще широко пользовался этим видом письменности, хотя в это время появляется все больше и больше переводных авантюрноприключенческих романов и сделанных по их образцу русских, каждый из которых, как правило, занимает отдельную весьма объемистую книгу. Изучение состава сборников само по себе дает превосходный материал для определения социального положения читателя, выявления круга чтения русского населения, влияния старинных памятников на передовую русскую литературу и т. д. Наглядный пример такого подхода к сборнику дает книга М. Н. Сперанского «Рукописные сборники XVIII века» [1963], но не менее важную роль играет изучение состава сборников и при восстановлении истории текста отдельных памятников русской старины.
Д. С. Лихачев в монографии «Текстология» [1983. С. 245–284] отводит этому вопросу отдельную главу, справедливо отмечая необходимость изучения состава рукописей при определении литературной судьбы того или иного памятника. Надо отдать должное современным текстологическим исследованиям произведений древнерусской литературы, в которых, как правило, учитывают в полной мере влияние состава сборника на изучаемое произведение. Нам хотелось бы остановиться на частном вопросе: показать, как литературное окружение повлияло на литературную судьбу «Беседы отца с сыном о женской злобе» – одного из популярнейших памятников древнерусской демократической литературы XVII в., и в чем сказалось это влияние.
«Беседа» составлена из метких афоризмов, ярких бытовых сценок, впечатляющих библейских картин, представляющих собой звенья одной цепочки, которые, однако, не достаточно крепко связаны. Это не цельное сюжетное повествование, поэтому здесь легче проявляется творческая самостоятельность книжника, который всегда может вставить, приличествующую моменту бытовую картинку или поместить хорошо запомнившийся афоризм. К тому же животрепещущая тема повествования – «женская злоба» – особенно привлекала переписчиков, которые не могли удержаться от соблазна выразить собственное мнение, дополнить повествование новыми текстами. Эти высказывания в основном книжного характера, но какими бы они ни были, в этих вторжениях в текст есть своя закономерность. Какой же характер носят эти вставки и дополнения? Чаще отдельные звенья выпадают из общего текстового потока, а новые, дополнительные, звенья появляются обычно в конце сочинения, и текстуальное закрепление их происходит не сразу. Первоначальный этап – это тематический цикл. Постепенно этот цикл образует неразрывное целое с самим произведением. При анализе состава сборников с текстом «Беседы» нами был выявлен устойчивый конвой: отдельные списки текста «Беседы» Первоначальной редакции [Титова, 1987. С. 24–32] сопровождались палейным рассказом об испытании царем Соломоном мужского и женского разума и легендой о юноше Папире, повествующих о «женской злобе», т. е. на лицо тематический цикл. К концу текста «Беседы», логически завершенному словами отца: «Вся сия видех и в писании обретох и тебе рекох», были присоединены эти тексты, как самостоятельные. Рассказ о юноше Папире, известен древнерусскому читателю и по «Римским деяниям», где он озаглавлен «Приклад, яко не подобает женам в тайных делах верити» [Ромодановская, 2009. С. 388–389], и как самостоятельный текст, получивший распространение в древнерусской литературе до перевода сборника «Римские деяния». При изучении «Римских деяний» Е. К. Ромодановская особо отмечала тексты прикладов, которые бытовали в русской книжности еще до перевода всего кодекса «Gesta» в иных переводах и различных версиях (жития Алексея, человека божьего и Евстафия Плакиды, повести о Григории, папе Римском, и о пустыннике и ангеле). К их числу относится и рассказ о юноше Папире, известный русскому читателю по переводу Хроники Мартина Бельского, затем включенного в Хронограф редакции 1617 г. и вошедшего в различных версиях в сборники смешанного состава. Е. К. Ромодановская справедливо соотносит текст о Папире в составе «Беседы» с одной из обработок хронографической версии, сохранившейся в сборнике РНБ, Q.XVII.139 [2008. С. 229].
Несмотря на то, что в «Беседе» отразился текст о Папире, существовавший вне «Римских деяний», русские книжники, несомненно, связывали его с этим переводным сборником, поскольку в дальнейшем к нему в «Беседе» были присоединены Приклады «о хитрости женской» и «яко не подобает верити женам, ни же таин своих объявляти им» [Ромодановская, 2009. С. 374–381, 385– 387]. Очень скоро этот «цикл» о женской злобе стал восприниматься и переписчиками и читателями как единое целое с «Беседой».
Совершенно очевидно, что первоначально все названные тексты представляли собой не что иное, как цикл о злобе женской, единственное, что объединяло их с «Беседой», – это традиционное для тематических циклов название-связка: «Тому же подобна». Далее следует палейный рассказ о Соломоне, легенда о Папире, приклады «Римских деяний» и только в более поздней Распространенной редакции «Беседы» эти тексты соотнесены непосредственно с «Беседой», они присоединены словами отца: «Слушай, сыне, во Иерусалиме граде…».
Таким образом, вначале складывается тематический цикл, а затем он «срастается» с произведением, которое ранее «конвоировал».
Следует учитывать, что рукописные сборники, включающие «Беседу», относятся исключительно к литературе демократической, которая принадлежит «средним» и «низшим» слоям русского населения XVII– XIX вв. Они по своему объему и содержанию очень разнообразны. В них отразились практически все виды и жанры старшей поры, начиная с произведений церковно-религиозного характера: это и нравоучительные повести о табаке, хмеле, прение живота и смерти, нравоучительные слова, поучения, отдельные главы «Великого зерцала» и «Римских деяний», огромное количество выписок из Пролога, Миней четьих, Кормчей, Апокалипсиса, Соборников, Уставов, Библии и др., наряду с «полезным чтением» в сборниках широко представлены отечественные и переводные повествовательные памятники XVII в.: Повесть об увозе Соломоновой жены, о Савве Грудцыне, о Милю-зине королевне, Брунцвике, притча о куре и лисице, а также переводы и русские обработки авантюрно-приключенческих романов XVIII в.: История о Евдоне и Берфе, Кале-андре и Неонилде, Повесть о Францеле Венециане, «Шуточные послания из разных городов» (Авизии), «Инструкция, данная мужем жене», «Послание к масленице», да- же Приключения Фемистокла Ф. Эмина и др.
Состав сборников часто помогает и в определении жанровой природы памятника, проясняет понимание жанровой специфики самими переписчиками.
Создавалась «Беседа» как Поучение [Титова, 1987. С. 142–155], она практически соответствовала канонам средневекового отеческого предания, необычность этого наставления состояла лишь в том, что оно было ограничено одной темой и функции ее главных персонажей (отца и сына) постепенно менялись. В первоначальном тексте роль сына пассивна, он безропотно внимает речам отца, всегда послушный и бессловесный, вдруг начинает спорить с отцом, пытается определить свою позицию относительно предмета разговора. Эта активность героя, безусловно, определяется временем.
XVII век, разрушая средневековые жанровые каноны, смело вторгается и в область учительной литературы.
Жанр первоначального текста «Беседы», задуманной как отеческое предание, пытается вырваться за рамки дозволенного. Открытая структура ее постепенно дополняется и разрастается за счет введения новых беллетристических главок, и благодаря этому текст постепенно превращается в Сказание.
Таким образом, по окружению можно судить и о жанровом восприятии памятника. Трудно предположить, что, помещая «Беседу» среди приключенческих и юмористических произведений, переписчики и читатели продолжали ее воспринимать как поучительное сочинение, некое руководство к действию, скорее это уже книга для занимательного чтения, для развлечения.
В сборниках XVIII в. мы часто обнаруживаем переделки (редакционные) традиционных для русского читателя памятников, т. е. наблюдаем активную жизнь памятников старшей поры, это следует отнести на счет той среды, в которой они вращались. Как показали читательские и владельческие записи на страницах рукописей, они по большей части принадлежали демократическому читателю. Стрельцы, крестьяне, подьячие, низший клир – вот главный контингент читателей, переписчиков и «соавторов» рукописных памятников XVII–XVIII вв. В каком же ключе шла переработка повестей, полюбившихся демократическому читателю?
В основном, это редакционная правка, которая идет по пути упрощения текста, приближения его языка к разговорному.
Внимание исследователей уже привлекали обработки XVIII в. таких произведений, как Повесть об Акире Премудром [Перетц, 1916], Повесть о Григории, папе Римском [Гудзий, 1914; 1958], Повесть о Еруслане Лазаревиче [Пушкарев, 1967], Повесть о Дмитрии Басарге [Скрипиль, 1969], Повесть о рождении и похождениях царя Соломона [Титова, 1986] и др.
Тексты демократических повестей в XVIII в. представляют собой своеобразную фольклорную обработку, пересказываются почти каждым переписчиком «на свой лад». Часто, осуществляя издания отдельных списков того или иного произведения XVIII в, исследователи отмечали эту особенность как переходный этап от письменного памятника к фольклору. Так, например, охарактеризован текст Повести о Соломоне в сборнике XVIII в. (ГИМ, собр. Соколова, № 15) С. Ф. Елеонским: «Текст повести о царе Соломоне в редакции «Красного сборника» 1 можно считать переходной ступенью к устным пересказам [1958. С. 445]. Относительно этого же сборника, но другой повести – о папе Григории – писал и Н. К. Гудзий: «Влияние былинного размера особенно чувствуется именно в повести о папе Григории» [1958. С. 179].
Действительно, в XVIII в. памятники, ушедшие в «четьи» сборники, сборники низов, постепенно изменяют свой язык, в смысле приближения к живой речи, наблюдается некий переходный этап старинной беллетристики, она стремится к фольклору, которому более свойственна сюжетность. Несмотря на то, что «Беседа» не имеет единого сюжета, и ее постигает такая же участь. Пересказываются и разъясняются, конечно же, прежде всего бытовые сценки и рассказы о библейских и исторических персонажах, т. е. сюжетные источники.
«Беседа» в основном помещается в рукописных сборниках смешанного состава. Су- дя по количеству дошедших до нашего времени списков памятника (110), а также обнаруженным нами в одном из сборников помет писца, работавшего на заказ, можно с уверенностью говорить о том, что она – благодаря непреходящей популярности темы – стала своеобразным бестселлером! В свое время я обратила внимание на писцовые пометы в сборнике ГИМ, собр. Уварова, № 2053 (1084) [Леонид, 1894. С. 430–432] (далее – Ув. 1084).
На полях сборника Ув. 1084 напротив заглавий сочинений, помещенных в нем, имеются киноварные пометы «списывать» или «не списывать». «Беседа» попала в разряд текстов, предназначенных для переписывания. Остановимся более подробно на Уваровском сборнике, так как он является одним из немногих образцов переписческой деятельности XVIII в. Это явно продукция писца-ремесленника [Бахрушин, 1954; Костюхина, 1965; Тальман, 1948]. Известно, что в XVIII в. сборник продолжает пользоваться большим спросом, особенно у демократических слоев населения, поскольку репертуар печатной книги (ставшей уже более дешевой, чем в XVII в.) все же не удовлетворял эти читательские массы. Любители древнерусской повести, как и переводного приключенческого романа, и поклонники назидательного чтения часто обращались к рукописной книге, которая до конца XVIII в. достаточно высоко ценилась; естественно, в этих условиях писец-ремесленник занимал видное место. Что же копировал в XVIII в. писец, какие произведения были наиболее популярны в демократической среде того времени? Обратимся к сборнику Ув. 1084, содержание которого отражает вкусы средних слоев русского населения XVIII в.
Для наглядности дадим полный перечень сочинений этой рукописи:
-
1) Л. 1 – Оглавление;
-
2) Л. 4 – «История о Калеандре царевиче греческом и Неонелде цасеревне трепизон-ской»;
-
3) Л. 155 – «История Астрахани, о приходе к великому государю царю и великому князю Иоанну Васильевичу, всея России самодержцу из Астрахани к Москве от Ян-гурчея царя и от Ногаи от Измаила мурзы послов…»;
-
4) Л. 175 – «Сказание о Ахмете (Магме-те) волхве еретице, его же срацыны пророка (?) называху»;
-
5) Л. 182 – Сказание о месте Мизгить, иде же глаголют быти гробу Махметя прелестника и лжепророка»;
-
6) Л. 189 – «О цесаре Каралусе, како пи-анство изобличи» ( списывать );
-
7) Л. 193 – «Повесть о трех блудницах дивная, иже во Египте содеяся» ( списывать );
-
8) Л. 199 – «Слово о зачатии и о составлении телес младенческих во утробах женских и како младенец растет и чим питаетца и оживляетца» (не списывать);
-
9) Л. 202 – «Слово о явлении Пречистей Богородицы некоему духовному старцу» ( списывать );
-
10) Л. 204 – «Дивное сказание о некоем цареве дворецком и о преселнике» ( списывать );
-
11) Л. 211 – «Страшное сказание о прелюбодеянии и о покаянии» ( списывать );
-
12) Л. 213 об. – «Слово зело страшное, сказание о пренебреженнем священнике» ( списывать );
-
13) Л. 215 – «Слово о некоем священнике, како умерша похоронившаго, зело страшное» ( списывать );
-
14) Л. 217 – «Беседа отца с сыном о женской злобе» ( списывать );
-
15) Л. 247 об. – «Об упрямой жене» ( списывать );
-
16) Л. 248 – «Об упрямой же жене и спорной» ( списывать );
-
17) Л. 249 – «О язычной и непоказливой жене» ( списывать );
-
18) Л. 250 – «О бабе, обманувшей демона» ( списывать );
-
19) Л. 252 об. «О вымысле попадьи: ка-ко научи медведя грамоте» ( списывать );
-
20) Л. 254 – «О некоей жене, о поминовении мужа своего» ( списывать );
-
21) Л. 256 – «Слово, како не терпит враг диавол, иде союз любве и аще творити собою безсилен – творит чрез человека, паче же бабами» ( списывать );
-
22) Л. 261 – «О жене оболстившей мужа своего и како муж пред женою каяся» ( списывать );
-
23) Л. 278 – «Повесть душеполезная о некоем юноше, иже сложи с себя иноческий образ, зело страшная»;
-
24) Л. 282 – «Егда взимает человек монашеский образ на себя, чесо ради преме-няют ему имя»;
-
25) Л. 284 – «Чудо святаго отца Николая Чудотворца о трех мужех, како избави от срациней»;
-
26) Л. 293 – «Учителя церковного Иеронима святаго, и о Иуде предателе Госпада нашего Исуса Христа, о рождении и житии его»;
-
27) Л. 305 – «Слово, о еже честь возда-вати родителем своим и не презирати их, зело полезно и ужасно, и что бысть некоему сыну от Бога»;
-
28) Л. 309 об. – «Повесть о некоем пре-звитере, яже впавшем в тяжкие грехи и прощение от Бога получи. Сия Повесть в недавних годех содеяся в граде Владимире дивна»;
-
29) Л. 321 – «Сказание о некоем свя-щеннице же младом, како сотворя грех со скотом»;
-
30) Л. 324 – «Сказание яко напрасно нам виновен бес бывает»;
-
31) Л. 324 об. – «Слово о детех родивших»;
-
32) Л. 326 – «История о князе Фридрихе и о сыне его Францилиане и о прекрасной его кролевне Рынцывены».
Нам известен еще один повествовательный сборник, выполненный тем же писцом, что и Ув. 1084. Это сборник РНБ, собр. Погодина, № 1603, первой половины XVIII в. [Бычков, 1882. С. 270–278]. Он также составлен из четьей литературы конца XVII – начала XVIII в., в его составе История об Астраханском взятии, повести о Брунцвике, Василии Златовласом, о Вавилонском царстве, об ангеле, ослушавшемся Бога, о рождении и похождениях царя Соломона, отдельные фацеции и др. [Панченко, 1969; Демкова, Семякина, 1971; Бударагин, 1981; Титова, 1979]. Двенадцать сочинений, содержащихся в Ув. 1084, переписаны и в Погодинском, № 1603 (см. выше № 3, 4, 7, 8, 10, 23–25, 27, 28). Не только почерк, но и бумага в обоих сборниках одинакова. Нет сомнений, что они принадлежат перу одного писца. К сожалению, не удалось выяснить имя писца, где он трудился, сколько стоили его книги, но кое-какие сведения о сборнике Погодина можно почерпнуть из читательских записей, сохранившихся на его страницах. А. М. Панченко, анализируя записи этого сборника, писал: «Тульский купец
Яков Яковлев сын Обусин помещает рукопись в заклад у новгородского купца Силы Дербушева “в дву рублях и семидесяти копейках” (речь идет о немалых деньгах). Ведь это всего заклад, а не окончательная продажа): данный сборник, действительно, весьма объемист и весьма разнообразен по составу. Делая эту запись, прожившийся в Новгороде туляк Я. Я. Обусин, который явно дорожил книгой (он брал ее с собой не для заклада, разумеется, а для дорожного чтения), добавляет: “А деньги пришлю, то прошу отдать”. Впрочем, заложенный сборник в Тулу, по всей видимости, так и не вернулся, во всяком случае он в течение нескольких лет находился в Новгороде. Кредитор передал его своему сыну. “Сия книга, – читаем в другой записи, – припору-чена новгородскому купцу Стефану Силину сыну Дербушеву”» [Панченко, 1969. С. 134– 135]. Судя по записям в сборнике Погодина, № 1603, неясно, был ли этот сборник куплен его первым владельцем в Туле, и можно ли считать писца туляком. Скорее всего купец Обусин, разъезжая по различным городам, где-то приобрел эту рукопись, стоила же она, наверняка, много дороже того, за что он ее закладывал.
Представленные материалы наглядно показывают, насколько прочен оказался вкус к этим старинным, широко распространенным в рукописных сборниках повестям, как они были близки и до́ роги сердцу русского человека.
THE RUSSIAN NARRATIVE
IN THE MISCELLANIES OF THE 17th–18th CENTURIES