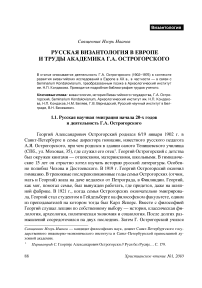Русская византология в Европе и труды академика Г.А. Острогорского
Автор: Иванов Игорь
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Византология
Статья в выпуске: 1 (32), 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье описывается деятельность Г.А. Острогорского (1902–1976) в контексте развития византийских исследований в Европе в XX в., в частности — в связи с Seminarium Kondakovianum, преобразованным позже в Археологический институт им. Н.П. Кондакова. Приводится подробная библиография трудов ученого.
Византология, история византийского государства, г.а. остро горский, археологический институт им. н.п. кондако ва, н.п. кондаков, н.м. беляев, г.в. вернадский, русский научный институт в бел граде, в.н. бенешевич
Короткий адрес: https://sciup.org/140189880
IDR: 140189880
Текст научной статьи Русская византология в Европе и труды академика Г.А. Острогорского
в Сорбонне (École des Hautes Études), посещая семинары известного историка Византии Шарля Диля (Страсбург, 4.7.1859 – Париж, 1 .11 . 1944)2.
О пробуждении интереса к византийским занятиям Острогорский писал русскому византологу Ф.И. Успенскому: «Византийской историей начал заниматься незадолго до окончания Гейдельбергского университета. Непосредственных учителей в области византиноведения у меня не было, взялся я за такую работу (докторскую диссертацию по экономической истории Византии) по собственной инициативе и проводил ее на свой риск и страх, так как византологов в Гейдельберге, где я прошел и окончил университет, нету. По окончании университета (в 1925 г.) я уже не переставал заниматься византийской историей и, в частности, обратился к изучению иконоборческого периода»3.
В 1922 году в Прагу приехал академик Н.П. Кондаков и приступил к чтению лекций в Карловом университете4. Благодаря своему особому положению в Чехословакии, Кондаков мог много сделать в деле оказания помощи русским беженцам, в особенности молодым. Вскоре Н.П. Кондаков стал тем центром, около которого собирались русские ученые и русская молодежь, оказавшиеся на чужбине. Из старшего поколения это были, прежде всего, проф. Георгий Владимирович Вернадский (1887–1973), проф. Александр Петрович Калитинский (1880–1940), княгиня Наталья Григорьевна Яшвиль (1861–1939)5. До своего отъезда из России даже самые младшие из этих лиц уже сформировались как исследователи, и около Н.П. Кондакова они были младшими коллегами.
После начала преподавания в Карловом университете вокруг Н.П. Кондакова образовался кружок русской молодежи. Он состоял из молодых людей, которые после военной службы в белой армии оказались в эмиграции. Высшего образования у себя на Родине по молодости они еще не успели получить, и, оказавшись в Праге, стали перед проблемой устройства своей жизни. Н.П. Кондаков помог им поступить в Карлов университет, и они стали членами его домашнего кружка. Это, прежде всего, Н.М. Беляев, Г.А. Острогорский, Н.П. Толль, Д.А. Расовский. Все они получили стипендию, которая впоследствии, после окончания университета, была им оставлена (за исключением Г.А. Острогорского) ико-торая позднее стала их жалованьем в Seminarium Kondakovianum. Атмосфера в этом кружке была домашняя, как в старых профессорских московских и петербургских домах. Отношение между всеми были очень дружеские. Непременной составной частью общения были чаи у Н.П. Кондакова с живым обсуждением общих научных проблем и новой литературы.
После кончины Н.П. Кондакова (16 февраля 1925 года) участники всего кружка поняли, что они не могут так сразу разойтись и расстаться друг с другом в дальнейшей научной работе. Они взяли на себя нравственную ответственность перед памятью Н.П. Кондакова — не прекращать своего научного общения. Так возникло дружеско-научное объединение — «Семинарий имени Н.П. Кондакова» (Seminarium Kondakovianum). В состав этого семинария вошли: М.А. Андреева, Н.М. Беляев, Г.В. Вернадский, А.П. Калитинский, Л.П. Конда-рацкая, В.Н. Лосский, Т.Н. Родзянко, Д.А. Расовский, Н.В. Толль, Н.П. Толль, Н.Г. Яшвиль. Руководителями занятий семинария стали проф. Г.В. Вернадский и проф. А.П. Калитинский. Кроме перечисленных выше участников Семинария, на некоторых собраниях участвовали в качестве гостей С.К. Терещенко, проф. А.В. Флоровский, д-р Н. Феттих (хранитель Будапештского национального му-зея)6. Собрания Семинария начались в апреле 1925 г. (с перерывом на июль – сентябрь 1925 г.) и возобновились вновь с 30 окт. 1925 г. На собраниях Семинария выслушивались и обсуждались доклады двух родов: 1. изложение вопросов, связанных с научной работой членов Семинария; 2. ознакомление членов Семинария с новостями научной литературы. Предметом работы Семинария были главным образом археология (в широком смысле этого слова) и византиноведение. В течение 1925 года состоялось 15 заседаний Семинария (4 весной 1925 года и 11, начиная с конца октября 1925)7.
Однако, даже простое ознакомление с названиями работ как самого Никодима Павловича Кондакова, так и сотрудников Семинария показывает, что под словом «археология» имеется в виду тот круг тем, который точнее было бы назвать христианскими древностями или же христианской культурой. Точно так же и термин «византиноведение» имеет в устах сотрудников Семинария совершенно определенное звучание. Это преимущественно византийское церковное искусство — как изобразительное, так и архитектура, а также искусство сопредельных с Византией православных стран. На первый взгляд может показаться необычным и несколько даже странным увлечение членов Семинария кочевнической тематикой. Но эта странность кажущаяся, стоит только вспомнить, какое значение в сложении византийского придворного церемониала и в выработке форм одежды византийского двора придавал Н.П. Кондаков кочевнической традиции. В таком контексте, с учетом роли кочевников в жизни Древней Руси, включение кочевнической тематики в план работы Семинария является осуществлением и воплощением заветов Н.П. Кондакова. Но была и другая сторона, куда более существенная, которая определяла характер всех работ — и самого Н.П. Кондакова, и работы его учеников и сподвижников, работы всей его школы. Имеются в виду подходы к изучаемому материалу и методы его обработки. Основой стал метод, который получил в науке название «иконографический метод Н.П. Кондакова». Основы его были заложены еще Ф.И. Буслаевым, но в своем законченном и совершенном виде он получил воплощение именно в трудах Никодима Павловича, а впоследствии в несколько измененном и углубленном виде в трудах его учеников. Суть этого метода можно сформулировать следующим образом: полная внутренняя связь созданного произведения с той средой, в которой оно возникло. Отсюда то большое внимание и самого Н.П. Кондакова к культуре того или иного периода в целом во всех формах ее проявления. Отсюда же и неприятие чисто формального сопоставления произведений, взятых изолированно от среды в широком смысле слова, в которой эти произведения были созданы.
Одним словом, Семинарий имени Н.П. Кондакова являл собою группу исследователей, очень сплоченную и объединенную совершенно ясными и твердыми исследовательскими принципами. Эти принципы были не только усвоены ими от своего учителя, но и приняты всем сердцем и уже на протяжении ряда лет воплощались ими в своих работах. Уже в 1926 году вышел первый том трудов Семинария: «Сборник статей, посвященный памяти Н.П. Кондакова. Археология. История искусства. Византиноведение» (Прага 1926). И на титуле стоит название издательства — «Seminarium Kondakovianum». Примерно половина авторов сборника — участники Семинария, в основном, — молодежь, вторая половина — крупнейшие ученые Западной Европы. Из ученых, оставшихся в СССР, в публикациях Семинария участвовал академик С.А. Жебелев.
Здесь следует отметить, что издания Семинария выходили очень маленьким тиражом. Ежегодники — тиражом 450 экземпляров, приложения к ним — тиражом 300 экземпляров, другие книги — также тиражом максимум 300 экзем-пляров8. В СССР попадали считанные экземпляры, в основном через тех лиц, которые сотрудничали с Семинарием (например, упомянутый академик С.А. Же-белев)9. И вплоть до сего дня издания Семинариум Кондаковианум остаются недоступными более или менее широкому кругу научной общественности.
Успех «Сборника статей, посвященных памяти Н.П. Кондакова» и последующих томов «Семинариума Кондаковианум» показал, что применение вышеуказанных принципов в научных разработках приносит свои плоды, что Семинарий благодаря их применению имеет свое лицо и получил признание в европейской науке10. Но дружная научная семья стала скоро распадаться, и это поставило Семинарий в очень трудное положение.
Первым покинул собратьев Г.В. Вернадский. Он принял полученное через посредство М.И. Ростовцева предложение одного из американских университетов возглавить кафедру и в августе 1927 года уехал в США. В этом же году уехал из Праги Г. Острогорский — сперва на стажировку в Париж, а затем — по приглашению из Бреслау (Вроцлав) преподавать в университете византийскую историю. Дело в том, что двадцатипятилетний Г. Острогорский только что защитил свою докторскую диссертацию по аграрной истории Византии. Следуя советам опытных и старших коллег, он скрупулезно изучил византийскую рукопись — трактат о налогообложении. Его весьма привлек этот загадочный и местами почти непонятный текст. Он его перевел и напечатал в 1927 г. со своими комментариями под названием «Сельская податная община в Византийском царстве в X веке». («Die ländlishe Steuergemeinde des byzantinischen Reiches im
X Jahrhundert» // Vierteljhrschrift für Sozial und Wirtschaftgeschichte. 1927. Bd. 20. S. 1-108).
Причем замечателен тот факт, что известный византинист А.А. Васильев (Петроград, 22.9/5.10. 1867 — Вашингтон, 29.5. 1953) упоминал о Г. Острогорском в 1927 г. как об одном из самых крупных византологов Германии11. Кроме того, в 1928 г. А.А. Васильев упоминает Острогорского в списке 22 ученых Европы, Америки и Египта, которым он собирался разослать экземпляры своей работы «Готы в Крыму»12.
Итак, в течение пяти лет (1928–1933 гг.) Г.А. Острогорский преподавал византийскую историю в Бреслау, получив звание приват-доцента 3 ноября 1928 г.13 На получение этого звания он представил работу по истории иконоборчества: Studien zur Geschichte des Bilderstreites (Breslau, 1929)14. В эти годы Г. Острогорский активно ведет научные изыскания на самые разнообразные темы и публикуется в различных западных изданиях:
-
1. Die wirtschaftlichen und soziale Entwicklungsgrundlagen des byzantinischen Reiches [Социально-экономические основы развития византийского государства] // Vierteljahreschr. F. Sozialu. Wirtschaftsgesch. 1929. 22. S. 129–143.
-
2. Über die vermeintliche Reformtätigkeit der Isaurier [О предполагаемой реформаторской деятельности императоров Исаврийской династии] // Byzantinische Zeitschrift. 1929/30. 30. S. 394–400.
-
3. Die Chronologie des Theophanes im VII. Und VIII. Jahrh [Хронология Феофана в VII и VIII вв.] // Byzant.-Neugr. Jahrb. 1930. 7. S. 1–56.
-
4. Les débuts de la Qurelle des Images [Начало иконоборчества] // Mélanges Ch. Diles. 1930. 1. P. 235–255.
-
5. Les décisions du Stoglav au sujet de la peinture d’images et les principes de l’iconographie byzantine [Решения Стоглава по вопросам иконописания и принципы византийской иконографии] // Receuil Th. Uspenskij. 1930. 1. P. 393–411.
-
6. Das Mitkaisertum im mittelalterlichen Byzanz [Со-императорство в средневековой Византии] // глава в книге: E. Konemann. Doppelprinzipat und Reichsteilung im Imperium Romanum, 1930, S. 166–178.
-
7. Relicario de los despotas del Epiro [Реликвии правителей Эпира] // Archivo Espanol del Arte y Arqueologia. 1930. 18. P. 213–221 (в сотрудничестве с Ph. Schweinfurth).
-
8. Das Steuersystem im byzantinischen Alterum und Mittelalter [Система налогообложения в ранней и средневековой Византии] // Byzantion. 1931. VI. S. 229–240.
-
9. Löhne und Preise in Byzanz [Поденная плата и цены в Византии] // Byzantinische Zeitschrift. 1932. 32. S. 293–333.
-
10. Die Krönungsordnungen des Zeremonienbuchs. Chronologische und verfassungsgeschichtliche Bemerkungen (совместно со Stein Ernst) [Протокол коронования в «Книге о церемониях». Исторические, хронологические и конституционные замечания] // Byzantion. 1932. VII. S. 185–233.
-
11. Das Projekt einer Rangtabelle aus der Zeit des Zaren Fedor Alekseevič [Проект «Табели о рангах» во времена царя Федора Алексеевича] // Jahrbuch für Kultur und Geschichte des Slaven. 1933. 9. S. 86–138.
По воспоминаниям С.А. Беляева, несмотря на то, что и Острогорский, и Вернадский уехали из Праги, и с первым, и со вторым, который до 1935 года продолжал оставаться председателем Семинария, у сотрудников Семинария сохранялись дружеские связи. Оба ученых, хотя и издалека, продолжали принимать участие в жизни Семинария и помогать ему. В этой связи следует отметить, что хотя Г.А. Острогорский не был членом-учредителем Семинария и не занимал в нем формально никаких крупных должностей, но делал очень важную и необходимую работу — фактически, помогал Семинарию зарабатывать деньги. Дело в том, что одним из весьма существенных статей дохода Семинария была выручка от продажи репродукций икон, поздравительных открыток и другой художественной продукции, которую создавали княгиня Н.Г. Яшвиль иТ. Родзянко: обе были хорошими иконописцами и вообще художниками. Острогорский же еще до получения постоянного места в университете часто ездил читать или отдельные лекции, или циклы лекций в другие города и страны, и Семинарий нагружал его своей продукцией для продажи. Впоследствии к уже упомянутым предметам прибавились и издания Семинария. И хотя после окончательного отъезда из Праги Г.А. Острогорский продолжал сотрудничать с Семинарием и, в частности, продолжал распространять его издания и другую продукцию, но многое было утеряно с его уходом15 .
Другим серьезным потрясением для кондаковцев стала гибель 23 декабря 1930 года в автомобильной катастрофе секретаря Семинария Н.М. Беляева. Он был, пожалуй, наиболее активный и одаренный ученик Н.П. Кондакова. В том же 1930 году с тяжелым нервным расстройством и сердечным недугом слег в больницу в Париже А.П. Калитинский — один из двух директоров Семинария. Внутренние потрясения совпали с внешними — примерно в это время прекратилась так называемая «русская акция» чехословацкого правительства, и Семинарий лишился даже тех скудных средств, которые он получал от правительства.
Активное сотрудничество с Семинарием Г.А. Острогорского отразилось в его многочисленных статьях, написанных специально для сборника «Семина-риум Кондаковианум»:
-
1. Византийский податной устав // Recueil d’études dediées à N. Р. Kondakov. Прага, 1926. C. 109–124.
-
2. Соединение вопроса о св. иконах с христологической догматикой в сочинениях православных апологетов раннего периода иконоборчества // Се-минариум Кондаковианум. Вып. 1. Прага, 1927. C. 38–48.
-
3. Обзор литературы по истории Византии на немецком языке с 1914 г. // Се-минариум Кондаковианум. Вып. 1. Прага, 1927. C. 325–330.
-
4. Гносеологические основы спора о святых иконах // Семинариум Кондако-вианум. Вып. 2. Прага, 1928. С. 47–51.
-
5. Отчет о докладах исторической секции Международного конгресса византинистов в Белграде // Семинариум Кондаковианум. Вып 2. Прага, 1928. С. 348–349.
-
6. Das reliquar der despoten von Epirus [Реликвии правителей Эпира] // Seminarium Kondakovianum. V. 1931. S. 165–169.
-
7. Отношение Церкви и государства в Византии // Seminarium Kondakovianum. IV. 1931. S. 119–134.
-
8. Zum Reisebericht des Harun-ibn-Jahja [По поводу путевых записок Гаруна-ибн-Яхьи] // Seminarium Kondakovianum. V. 1932. S. 150–157.
-
9. Rom und Byzanz im Kampfe um die Bilderverehrung [Рим и Византия в борьбе за иконопочитание] // Seminarium Kondakovianum. VI. 1933. S. 73–87.
-
10. Zum Stratordienst des Herschers in der byzantinisch-slavischen Welt [О стра-торской службе правителя в византийско-славянском мире] // Seminarium Kondakovianum. VII. 1935. S. 187–204.
-
11. Die byzantinische Staatenhierarchie [Государственная иерархия в Византии] // Seminarium Kondakovianum. VIII. 1936. S. 41–61.
-
12. L’expédition du prince Oleg contre Constantinople en 907 [Поход князя Олега на Царьград в 907 г.] // Seminarium Kondakovianum. XI. 1940. P. 47–62.
-
13. Postface à l’article “L’expédition du prince Oleg contre Constantinople en 907” [Послесловие к статье «Поход князя Олега на Царьград в 907 г.»] // Seminarium Kondakovianum. XI. 1940. P. 296–298.
Кроме того, Острогорский участвовал в заседаниях «Семинария», выступая на них с докладами. В частности, в выпуске №2 «Семинариум Кондаковиа-нум» от 1928 г. упоминается о том, что после отчета проф. А.П. Калитинского о деятельности «Семинария» были прочитаны доклады доктором Гейдельбергского университета Г.А. Острогорским «Отношение византийских иконоборцев к почитанию Божией Матери и святых» и доктором Пражского университета Н.М. Беляевым «О серебряных чашах, найденных в России»16. Судя по публикациям, данный доклад Г.А. Острогорского в виде отдельной статьи издан не был.
-
1.2. Г.А. Острогорский и деятельность Археологического института им. Н.П. Кондакова в период с 1931 по 1941 год
«Семинарий имени Н.П. Кондакова» (Seminarium Kondakovianum), переименованный в 1931 г. в «Археологический институт имени Н.П. Кондакова», издавал как прежние «Сборники статей по археологии и византиноведению», так и новые «Анналы» (до 1940 г. было опубликовано 11 выпусков научных трудов института). Этот институт издал посмертно последний труд Н.П. Кондакова «Очерки и заметки по истории средневекового и церковного искусства». Институт сыграл важную роль в развитии византиноведения и славистики в Чехословакии, в частности с ним была связaнa деятельность выдающегося чешского aрхеологa-слaвистa Люборa Нидерле (1865–1944). В 1938 г. часть института была переведена в Белград. В 1941 г. белградская часть института прекратила своё существование. Пражская часть Института работала до 1952 г. Главной задачей института было издание рукописного наследия Кондакова, изучение древнерусского искусства и др. Деятельность института подробно описана в воспоминаниях Андреева Н.Е. То, что вспоминается. Таллинн.: Авенариус. 1996. Т. 1 — 336 С., Т. 2 — 320 С. В настоящее время архив института хранится в отделении документации Института истории искусств Академии наук Чехии.
В 1931 г. Г.А. Острогорский становится действительным членом Археологического института им. Н.П. Кондакова и членом правления. В «Анналах» института Острогорский напечатает следующие свои работы:
-
1. Славянский перевод хроники Симеона Логофета. // Annales de 1’Institut Kondakov. Vol. V. 1932. P. 17–37.
-
2. Autokrator Johannes II und Basileus Alexios [Самодержец Иоанн II и васи-левс Алексей] // Annales de l’Institut Kondakov. Vol. X. 1938. S. 179–183.
-
3. В.Г. Васильевский как византинист и создатель современной русской ви-зантологии // Annales de 1’Institut Kondakov. Vol. XI. 1940. P. 227–235.
В 1933 г., после прихода Гитлера к власти, Острогорский был обеспокоен тем, что его еврейское происхождение затруднит жизнь в Германии. Об этом он доверительно писал Толлю: «Судьба человека здесь сейчас зависит от его происхождения. Во-первых, я не германец, а русский. Во-вторых, предки мои со стороны отца — евреи. Не знаю даже, известно ли это Вам. ‹…› Я никогда не ощущал и не ощущаю никакой связи с еврейством и, конечно, ни в какой мере не считаю себя евреем. ‹…› Возьмете ли меня в институт?»17 И в том же 1933 году он получает приглашение на кафедру византологии философского факультета в Белградском университете18. Кстати говоря, эта кафедра была основана в 1906 г. известным сербским византологом, профессором Драгутином Анастасиевичем (18/30.7.1877 – 20.8.1950).
Интересно, что в 1927 г. Г. Острогорский уже бывал в Сербии. Он принимал участие во II Международном византологическом конгрессе в Белграде19. Он тогда посетил сербские монастыри Студеницу, Грачаницу и Сопочане, потом был на Афоне. Познакомился с белградскими коллегами. И именно по рекомендации ведущих медиевистов, прежде всего Станоя Станоевича и Драгутина Анастасиевича, последовало упомянутое приглашение, и в 1933 г. он прибыл в Белград, став профессором философского факультета Белградского университета. А в 1935 г. Острогорский принял югославское гражданство. И уже на сербском языке Острогорский пишет свой новый труд о преобразованиях царской власти в Византии — «Автократор и самодржац. Прилог за историју владалачке титу-латуре у Византији и у јужних Словена» (1935)20.
Кроме того, Г. Острогорский продолжил свое сотрудничество с Русским научным институтом в Белграде, где читал лекции по приглашению. В Институте работали известные ученые 21 — Дмитрий Сергеевич Мережковский,
Константин Дмитриевич Бальмонт, Игорь Северянин, известный специалист по аэродинамике Дмитрий Павлович Рябушинский, выдающийся биолог, член Пастеровского института в Париже Сергей Иванович Метальников, историки Евгений Францевич Шмурло, Иван Иванович Лаппо, Антоний Васильевич Флоров-ский, философы Иван Иванович Лапшин, Николай Онуфриевич Лосский, Семен Людвигович Франк. Для одного из сборников Института Г.А. Острогорский написал статью «Афонские исихасты и их противники: К истории поздневизантийской культуры22.
Также Острогорский сотрудничал с одним из первых объединений русских ученых, сформированным еще в 1921 г. — Русским археологическим обществом, председателем которого был избран филолог и историк-славист, профессор Белградского университета А.Л. Погодин, ранее преподававший в высших школах Варшавы и Харькова. В одном из сборников общества Г. Острогорский опубликовал свою статью «Возвышение рода Ангелов» (Сборник Русского археологического общества в Югославии. 1936. С. 111–120).
Важно отметить, что в Обществе участвовали такие видные русские историки общественной мысли, Церкви и права, как А.П. Доброклонский, Е.В. Спек-торский, Ф.В. Тарановский, С.В. Троицкий, Е.В. Аничков, М.Н. Ясинский, А.В. Соловьев, В.А. Мошин23. С двумя последними Г.А. Острогорского долгое время связывали узы тесной дружбы24. Впоследствии будущий академик, протоиерей Владимир Мошин будет вспоминать, как в суровые годы войны во время немецкой оккупации именно друзья поддерживали его. Приняв сан иерея в 1942 году, В. Мошин стал служить в Белградской русской церкви. О тех днях он вспоминает так: «Там я провел все время оккупации и первые 3 года после освобождения, работая в то же время преподавателем истории в Белградской русской гимназии и продолжая свои научные занятия дома, в постоянном общении с друзьями — А.В. Соловьевым и Г.А. Острогорским»25. Теплые, дружеские отношения сохранил Г.А. Острогорский и с В.Н. Бенешевичем, оставшимся в Советской России, успевшим уже побывать в тюрьме и в ссылке (с 25 ноября 1928 г. по 13 марта 1933 г.), и продолжавшим плодотворно заниматься наукой. Они переписывались, обменивались материалами. Острогорский прислал Бенешевичу свою новую статью «Das Projekt einer Rangtabelle aus der Zeit des Zaren Fеdor Alekseevič», изданную в Германии в 1933 г. На нее ссылается В.Н. Бенешевич в своей неопубликованной работе «Лекции по истории византиноведения»26. Сам Бенешевич в 1935 г. разослал многим зарубежным византологам экземпляры своей «Меланх-тонианы». Ответное письмо с благодарностью прислали немногие. Среди них — А.В. Соловьев, Д. Моравчик, Г.А. Острогорский, Д.А. Расовский и В.А. Мо-шин27. Кстати, в 1934 году Драгутин Анастасиевич предлагал В.Н. Бенешеви-чу кафедру канонического права в Белградском университете. Острогорский, обеспокоенный судьбой Бенешевича в СССР, спрашивал его о причинах отказа от этого предложения. В письме Г.А. Острогорскому от 10 мая 1934 года В.Н. Бенешевич объяснял свое решение интересами семьи: «Вопрос о семье для меня основной: оторваться навсегда от двух сыновей — близнецов 22 лет и мне, и жене невозможно: а они учатся и служат усердно и успешно, так как юноши талантливые. В Белграде им пришлось бы переучиваться и затем искать работы, да еще создавать себе доброе имя, которое здесь у них уже есть»28. В 1936 году Д. Анастасиевич снова пишет В. Бенешевичу: «‹…› в прошлом году сообщил мне Ваши новости дорогой Острогорский. Он был любезен дать мне и Ваш адрес. Думал, что, может быть, еще не время писать Вам, я его попросил передать Вам мои поклоны. Одновременно было у меня желание, чтобы Вы заняли у нас кафедру церковного права. Почти все было приготовлено. К моему сожалению, Вам не было возможно. Итак, я Вас никогда не забывал»29. Будучи членом-корреспондентом Баварской академии наук в Мюнхене В. Бенешевич в мае 1937 г. опубликовал работу, над которой трудился много лет — “Synagoga” Иоанна Схоластика. В октябре 1937 Бенешевич был отстранен от профессуры, 14 октября он был уволен, а 26 октября в “Известиях” появилась заметка о предательстве ученого, издавшего труд в фашистской Германии. Вскоре, 27 ноября Бенешевич был арестован, вновь обвинен в шпионаже и приговорен к высшей ме- ре наказания. 27 января 1938 г. Владимир Николаевич Бенешевич был расстрелян в застенках НКВД. Были расстреляны и два его сына — Георгий и Дмитрий, а также брат геолог Дмитрий Николаевич Бенешевич30. В 1958 году они были реабилитированы. Здесь можно отметить тот факт, что Г.А. Острогорский также издал свой труд «История Византийского государства» в Германии в 1940 году, но югославское правительство его за это не расстреляло.
В 30-е годы Г.А. Острогорский также печатается в различных сербских, немецких, болгарских и русских научных изданиях, например:
-
1. Автократор и самодржац. Прилог за историју владалачке титулатуре у Византији и у јужних Словена [Автократор и самодержец. Заметки о развитии царской титулатуры в Византии и у южных славян] // Глас Српске краљевске академије наука. Т. 164. 1935. С. 95–187.
-
2. Die Krönung Symeons von Bulgarien durch den Patriarchen Nicolaos Mystikos [Царь Симеон Болгарский при патриархе Николае Мистике] // Bulletin de l’Institut Archeologique bulgare. 9. 1935. P. 275–286.
-
3. Синаjска икона св. Jована Владимира [Синайская икона св. Иоанна Владимира] // Глас Серпског Научног Друштва. 14. 1935. С. 99–106.
-
4. Писмо Димитриja Хоматиjaнa св. Сави [Письмо Димитрия Хоматияна св. Савве] // Светосавски Зборник. II. Београд, 1939. С. 89–113.
-
5. Владимир Святой и Византия // Владимирский сборник. Београд. 1939. С. 31–40.
-
6. Основни принципи источно-хришħанске иконографиjе [Основные принципы восточно-христианской иконографии] // Уметнички преглед. Београд, 1939. С. 43–45.
-
7. Братья Василия I // Сборник П. Никова. 1940. С. 324–350.
В результате такой плодотворной научно-исследовательской деятельности к 1940 году Г.А. Острогорским было написано 2 монографии и более 40
статей на разных языках и на различные темы, касающиеся византийской цивилизации. Можно сказать, что на протяжении этого времени формировалась зрелость ученого, сказавшаяся в написании фундаментального труда «История Византийского государства» (Geschichte des byzantinischen Staates. 1940). Впервые он издал его как первую половину второго тома серии Byzantinisches Handbuch im Rahmen des Handbuchs der Altertertumswissenschaft. Ни первый том, ни вторая половина второго тома этой серии никогда не публиковались. Второе немецкое издание работы вышло в 1952 г., а третье — в 1963 г. Впоследствии это сочинение Г.А. Острогорского переиздавалось неоднократно и на разных языках. Ученый постоянно дополнял и редактировал свой труд. Как замечает А.А. Васильев, «эта работа имеет первостепенное значение. В ней рассмотрен весь период византийской истории до падения империи. Г.А. Острогорский дает прекрасную картину развития Византии, начиная с шестого века. Ранний период истории империи, 324–610 гг., обрисован только кратко, в соответствии с планом Handbuch, в рамках которого сочинение Г.А. Острогорского было опубликовано. Текст снабжен весьма полезными и прекрасно подобранными примечаниями и ссылками. Книга дает хорошую, вызывающую доверие картину развития Восточной империи. Как показывает заголовок, основная задача автора заключалась в намерении показать развитие Византийского государства и его изменения под влиянием внутренних и внешних политических факторов. Хотя политическая история в этой книге и преобладает, однако социальные, экономические и культурные феномены принимаются во внимание. В качестве приложения к этому тому можно рассматривать главу Г.А. Острогорского из первого тома «Кембриджской экономической истории Европы от упадка Римской империи» (The Cambridge Economic History of Europe from the Decline of the Roman Empire) под названием — «Аграрные условия в Византийской империи в Средние века» (Agrarian Conditions in the Byzantine Empire in the Middle Ages). Книга Г.А. Острогорского является прекрасным образцом научного исследования и совершенно необходима изучающему византийскую историю»31.
Что касается истории Семинара Н.Д. Кондакова, вопросы финансирования Семинария год от года становились все острее, особенно с началом 1930-х гг. и общим сворачиванием «русской акции». Как отмечает Е.Ю. Басаргина, «в связи с этим, руководство Семинара начало поиск источников пополнения денежных средств. Особые надежды руководство Семинара питало на поддерж ку югославских властей. В начале 1938 г. секретарь Д.А. Расовский переехал в Белград с надеждой на открытии там отделения и помощи заведующего университетской кафедрой византинистики Г.А. Острогорского. Вначале дела пошли весьма успешно. Принц-регент Югославии Павел взял дело под свое высокое покровительство. Королевский совет решением от 26 августа 1938 г. выдал до 1 апреля 1939 г. кредит в размере 80 тыс. динаров, а с 1 апреля 1939 по 31 марта 1940 г. — уже министерство финансов 99 тыс., треть из которых практически сразу ушла на печатание 11 сборника»32. Образовался уже новый институт с директором Г.А. Острогорским, и секретарем Д.А. Расовским. В Праге начались активные сборы по переезду в Югославию. В Белград прибыла дирекция, возобновились заседания. Летом 1938 г. началась перевозка институтской библиотеки в Белград. Пару лет обсуждался вопрос о полном переезде института из Праги в Белград. Однако 6 апреля 1941 г. Германия напала на Югославию, и во время первого налета германской авиации на Белград помещение института было разрушено и убиты два сотрудника института — Расовский и Окунева-Расовская. Г.А. Острогорский предпринял энергичные меры для сохранения разгромленной библиотеки. Собрав группу помощников из русских, он в течение многих дней, с утра до ночи, в пределах полицейского часа, доставал из-под развалин разрушенного дома книги. Из 1600 книг было утрачено около 500. Затем была проведена огромная работа по очистке книг. Научная деятельность Института в условиях военного времени заметно сократилась. В 1939–1941 гг. еще читались доклады, в основном на русском языке, а в 1943–1945 гг. чтение докладов было умышлено сокращено, чтобы не привлекать внимания административных органов33. Приведем отрывок из воспоминаний С. Пириватрича о военных годах в Институте: «Во время немецкой оккупации Г.А. Острогорский продолжал вести византоло-гический семинар, если позволяли обстоятельства. После войны вел семинары и по археологии и по всеобщей истории, грозя прекратить занятия, если не дадут 3 лампочки по 40 свечей и две по 25 свечей, «так как большинство старых лампочек перегорело ине менялось с 1940 г.». Каки многие белые эмигранты, которые после войны приняли советское гражданство, он был бы скорее всего принужден покинуть Югославию, но благодаря вмешательству коллег, прежде всего историка Васы Чубриловича (14.01.1897–11.06.1990), Острогорский был «изъят» из “проскрипционного списка”»34.
В 1948 г. ученый основал Византологический институт Сербской Академии наук и искусств (САНИ), членом которой тогда же был выбран.
За 1941–1947 годы Г. Острогорский написал несколько работ.
-
1. Die Perioden der byzantinischen Geschichte [Периодизация византийской истории] // Historische Zeitschrift. 1941. 163. S. 229–254.
-
2. Agrarian Conditions in the Byzantine Empire in the Middle Ages [Аграрные условия в средневековой византийской империи] // The Cambridge Economic History of Europe from the Decline of the Roman Empire. V. 1. 1942. P. 194–223.
-
3. Bemerkungen zum byzantinischen Staatsrecht der Komnenenzeit [Заметки о византийском государстве в эпоху династии Комнинов] // Südost-Forschungen. 1943. 8. S. 61–70.
-
4. The Peasant’s Pre-emption Right, An Abortive Reform of The Macedonian Emperors [Преимущественное право крестьян при покупке земельных владений. Неудачные реформы Македонской династии] // Journal of Roman Studies. 1947. 38. P. 117–126.
-
5. Историjа Византиjе. Београд: Просвета, 1947. 296 с.
-
6. Работа по византиноведению в Югославии за 1939–45 гг. // Byzantinoslavi-ca. 1947–48. 9. С. 133–142 (совместно с С. Радойчичем).
В это время, вероятно, в связи с тем фактом, что Г.А. Острогорский чудом избежал советского концлагеря для бывших «белоэмигрантов», происходит характерная реакция в СССР — в журнале «Вопросы истории» победного 1945 года Г.А. Острогорского клеймят именно как белоэмигранта: «С самого начала своей научной деятельности Острогорский проявил готовность поставить свою исследовательскую работу на службу царизму с его официальной программой «Самодержавие, православие и народность». Не случайно поэтому Острогорский не принял Великой октябрьской социалистической революции и очутился в рядах белоэмигрантов. Оторвавшись от живительной почвы своей родины, Острогорский неизбежно сблизился с реакционным крылом историографии Ви-зантии»35. Не удивительно, что с такой подачи имя и труды Г.А. Острогорского были практически неизвестны советскому историку. Только в конце 1960-х — начале 70-х годов о нем стали упоминать отечественные византологи. Наоборот, даже редкие упоминания в советских научных изданиях о крупных русских ученых-эмигрантах могли сослужить им плохую службу — их могли обвинить в симпатиях к большевизму. Например, в одном из частных писем историк М.М. Карпович замечает по поводу подобной ситуации: «Что касается книги (не статьи ли?), появившейся в 1948 г. в России, то в то время (еще до ссоры Сталина и Тито, если не ошибаюсь — да позднее это едва ли и могло бы произойти) в советских изданиях из русских ученых, застрявших в Югославии, печатался и Острогорский —как и Соловьев, по части пробольшевизма совершенно не виноват. Это просто парадокс, созданный обстоятельствами времени и места». (Письмо М. Карповича Р. Гулю от 18-V-52, Лондон)36. В 1968 г. в «Византийском временнике» появилась небольшая заметка Е.П. Наумова «Новая работа по истории сербо-византийских отношений в XIV в.: Рецензия на монографию Г.А. Острогорского «Сербская область после смерти Душана»37. В 1973 г. в сборнике, посвященном 75-летию академика В.Н. Лазарева «Византия. Южные славяне и древняя Русь. Западная Европа. Искусство и культура» публикуется (причем на первых страницах) статья Г.А. Острогорского «Эволюция византийского обряда коронования».
-
1. 3. Труды Г.А. Острогорского в период 1948–1973 гг.
Как уже отмечалось во время и после Второй Мировой войны Г.А. Острогорский ведет обширную научную работу и затем публикует отчет о ней 38.
Его избирают ректором Института византологии39 в Белграде и действительным членом Сербской Академии наук и искусств (1948)40. Изданием «Византийских писцовых книг» (1948) ученый проливает свет на малоизвестные до этого особенности византийского феодального устройства41. Он является редактором серии «Отдельные издания Византологического института» (с 1951 г.) и «Сборников трудов Византологического института» (с 1952 г.). Кроме того, Острогорский публикуется в научных изданиях Исторического института САНИ42. По его инициативе начинается издание византийских источников по истории народов Югославии. Научная деятельность Г.А. Острогорского сосредоточилась главным образом в области аграрной истории Византии и истории византийской идеологии43. Он занимается социально-экономической историей Византии, византийско-сербскими отношениями, постоянно дополняет и редактирует свой капитальный труд «История Византийского государства», переиздающийся на немецком, сербо-хорватском, французском, английском, польском и словенском языках. В 1950-е г. выходят в свет его работы, посвященные тщательному изучению византийского феодализма как социально-экономической системы — «Pour l’histoire de la féodalité byzantine» (1954), «Quelques problèmes d’histoire de la paysannerie byzantine» (1956), «Byzantine Cities in the Еarly Middle Ages» (1959), где ученый выступает сторонником теории непрерывности (от времен Римской империи) развития византийских городов, а также вскрывает острые противоречия в феодальном обществе, связанные с борьбой царской власти и крупной земельной аристократии. Коренное изменение социальнополитических отношений, таких как утверждение свободного крестьянства и организация фем, Острогорский датирует VII веком, тогда, как многие историки Византии относили их к VIII – первой половине IX в.44 Кроме того, ученый занимается анализом дипломатической документации Византийской империи и издает работу на соответствующую тему «К истории иммунитета в Византии» (1958). В 1959 г. выходит его «История Византии», написанная на сербском языке. Будучи ученым мирового уровня, Г.А. Острогорский публикует многочисленные статьи в различных международных сборниках по византологии. В целом за период с 1925 по 1963 год им написано более 120 научных работ. В 1967 г. Острогорского избирают членом-корреспондентом Афинской Академии и академии в Палермо, в 1968 — Неапольской академии моральных и политических наук, а также почетным доктором Страсбургского университета; в 1969 г. он избран почетным членом Американской академии наук, а в 1970 г. — членом-корреспондентом Парижской академии des Inscriptions et Belles Lettres. С 1971 г. Острогорский — член-корреспондент Австрийской академии наук. На Визан-тологическом конгрессе в Афинах (сентябрь 1976 г.) он был назван наиболее выдающимся византологом своего времени45. Потом последовали многочисленные награды и признания — почетный член академий наук в Геттингене, Бельгии, Англии, США, Палермо, Франции, Австрии, Афинах, почетный доктор наук университетов в Оксфорде и Страсбурге и пр. Кстати, сын Г.А. Острогорского, Александр Георгиевич Острогорский, стал известным физиком, признанным как за рубежом, так и в России.
Четверть века (с 1948 г. по декабрь 1973 г.) Г.А. Острогорский был бессменным ректором Белградского византологического института. В 1973 г. он ушел на пенсию и стал готовить четвертое немецкое издание «Истории Византии». После кончины Г.А. Острогорского 26 октября 1976 г., согласно его завещанию, обширнейшая библиотека ученого стала достоянием основанного им института, а новые поколения византологов с любовью и благодарностью продолжают дело своего учителя. Среди них можно назвать имена Божидара Фе-рьянчича, Иванки Николаевича, Симы Чирковича, Ф. Баришича и др. Но при этом нужно помнить, что сам Г.А. Острогорский свое дело вершил с мыслью о грядущем возрождении византинистики на Родине.
Приложение.
Важнейшие работы Г.А. Острогорского в период 1948–1973 гг.
За период своего ректорства Г.А. Острогорским написано множество статей, ряд из которых указан далее.
-
1. Византийские писцовые книги // Byzantinoslavica. 9. 1948. C. 203-306.
-
2. Утицаj словена на друштвени преображаj Византиjе [Влияние славян на общественные изменения в Византии] // Историjски гласник. 1. 1948. С. 12–21.
-
3. Сербское посольство к императору Василию II // Глас Српске академије наука и уметности. T. 193. 1949. С. 15–29.
-
4. Порфирогенитова хроника српских владара и њени хронолошки подаци [Порфирогенитова хроника сербских правителей и ее хронологические данные] // Историjски часопис. 1. 1949. C. 24–29.
-
5. Le grand domaine dans l’empire byzantin [Великий домен в византийской империи] // Recueil de la Societé Jean Bodin. 4. 1949. P. 39–50.
-
6. Елевтери. Прилог историjи сељаштва у Византиjи [Элевтеры. Заметка об истории сельской общины в Византии] // Зборник Филозофског факултета Универзитета у Београду. I. 1949. С. 45–62.
-
7. Une ambassade serbe auprès de l’empereur Basile II // Byzantion. 19. 1949. P. 187–194. [сокращенный перевод на французский язык статьи «Сербское посольство к императору Василию II»].
-
8. Византиjске катастарске книге [Византийские кадастровые книги] // Историjско-правни зборник. 2. 1949. С. 3–68.
-
9. Le système de la pronoia à Byzance et en Serbie médiévale [Система пронии в Византии и в средневековой Сербии] // Actes du VI Congrès International des Etudes byzantines. I. Paris, 1950. P. 181–189.
-
10. Urum – Despotes: die Anfänge der Despoteswürde in Byzanz [Урум-Деспот: к возникновению титула деспота в Византии] // Byzantinische Zeitschrift. 44. 1951. S. 448–460.
-
11. Душан и његова властела у борби са Византиjом [Душан и его знать в борьбе с Византией] // Зборник у част шесте стогодишњице Законника цара Душана. I. Београд, 1951. C. 79–86.
-
12. Les Koumanes pronoïaires [Куманы прониары] // Annuaire de l’Institut de Philologie et d’Histoire Orientales et Slaves. 11. 1951. P. 19–29.
-
13. Нове публикациjе византиjских повеља [Новые публикации византийских грамот] // Историjски часопис. 2. 1951. С. 199–206.
-
14. Sur la Pronona. À propos de l’article de M. Lascaris [О Прононе. По поводу статьи М. Ласкариса] // Byzantion. 22. 1952.
-
15. Постанак тема Хелладе и Пелопонеза [Возникновение фем Эллада и Пелопоннес] // Зборник радова. Византолошки институт. Kњ. 1. 1952. C. 64–77.
-
16. Etienne Dušan et la noblesse serbe dans la lutte contre Byzance [Стефан Душан и сербская знать в борьбе с Византией] // Byzantion. 22. 1952. P. 151–159.
-
17. Тактикон Успенског и Тактикон Бенешевића. О времену њиховог постан-ка [Тактикон Успенского и Тактикон Беневешича. О времени его возникновения] // Зборник радова. Византолошки институт. Kњ. 2. 1953. C. 39–60.
-
18. Константин Порфирогенит о Koнстантину Погонату [Константин Порфи-рогенит о Koнстантине Погонате] // Зборник часопис. VI–VII (1952–1953). C. 116–123.
-
19. Sur la date de la composition du Livre des Thèmes et sur l’époque de la constitution des premiers thèmes d’Asie Mineure [О времени написания «Книги о фемах» и об установлении первых фем в Малой Азии] // Byzantion. 23. 1954, P. 31–66.
-
20. О византиjским државним сељацима и воjницима [О византийских государственных крестьянах и воинах] // Глас Српске академије наука и умет-ности. T. 214. 1954. С. 23–46
-
21. Zur Kaisersalbung und Schilderhebung im spätbyzantinischen Krönungszeremoniell [О миропомазании на царство и поднимании на щит в поздневизантийском церемониале] // Historia. 4. 1955. S. 246–256.
-
22. Размена поседа и сељака у хрисовуљи цара Алексиjа I Комнина свето-горскоj лаври из 1104 годене [Обмен имения и крестьян в хрисовуле царя Алексия I Комнина святогорской лавре от 1104 г.] // Историjски часопис. 5. 1955. C. 19–25.
-
23. Bizantijsko-južnoslovenski odnosi [Византийско-южнославянские отношения] // Enciclopedija Jugoslavije. I. 1955. S. 591–599.
-
24. Лав Равдух и Лав Хиросфакт [Лев Равдух и Лев Хиросфакт] // Зборник радова. Византолошки институт. 3. 1955. С. 29–36.
-
25. The Byzantine emperor and the hierarchical world order [Византийский император и иерархический порядок мира] // The Slavonic and East European review. 35. 1956/57. P. 1–14.
-
26. Staat und Gesellschaft der frühbyzantinischen Zeit [Государство и общество в ранневизантийский период] // Historia Mundi. IV. Bern-Munchen, 1956. S. 556–569.
-
27. Das byzantinischen Kaiserreich in seiner inneren Structur [Византийское царство и его внутренняя структура] // Historia Mundi. VI. Bern, 1958. S. 445–473.
-
28. Die Entstehung der Themenverfassung. Korreferat zu A. Pertusi [Возникновение фемного устройства.] // Akten des XI International Byzantinisten Kongress. München, 1958. S. 1–8.
-
29. К истории иммунитета в Византии // Византийский временник. Т. 13, М., 1958.
-
30. Pour l’histoire de l’immunité à Byzance (traduction par H. Grégoire) // Byzantion. 28. 1958. P. 165–254. [Перевод на французский язык статьи «К истории иммунитета в Византии»].
-
31. Byzance, État tributaire de l’empire turc [Византия как вассальное государство турецкой империи] // Зборник радова. Византолошки институт. Књ. 5. 1958. C. 49–58.
-
32. Две белешке о Душановим хрисовуљама светогорском монастиру Ивиро-ну [Две заметки о хрисовулах Душана Иверскому святогорскому монастырю] // Зборник Матице српске. 13/14. 1958. C. 75–84.
-
33. Byzantine Cities in the Early Middle Ages [Византийские города в раннем средневековье] // Dumbarton Oaks papers. 13. 1959. Р. 47–66.
-
34. The Byzantine Empire in the World of the Seventh Century [Византийская империя в VII в.] // Dumbarton Oaks papers. 13. 1959. P. 1–21.
-
35. L’Exarchat de Ravenne et l’origine des thèmes byzantins [Равеннский экзархат и начало фемного устройства] // Corsi di cult. sull’arte ravennate e byzantina. Ravenna. Fasc. 1. 1960. P. 99–110.
-
36. Радоливо, село светогорског монастира Ивирона [Радоливо — село святогорского Иверского монастыря] // Зборник радова. Византолошки институт. 7. 1961. C. 67–84.
-
37. Византиjска сеоска општина. Земљораднички закон — Трактат о пореском систему — Тебански катастар [Византийская сельская община. Земледельческий закон — Трактат о налогах — Фебский кадастр] // Глас Српске академије наука и уметности. Т. 250. Књ. 10. 1961. С. 141–160.
-
38. La Commune rurale byzantine. Loi agraire — Traité fiscal — Cadastre de Thèbes // Byzantion. 32. 1962. P. 139–166. [Перевод на французский язык предыдущей статьи — «Византиjска сеоска општина…»]
-
39. Византиjа и Jужни Словении [Византия и южные словяне] // Jугословенски историjски часопис. 1. 1963. С. 3–13.
-
40. Byzantium and the South Slave // The Slavonic and East European review. 42. 1963. P. 1–14. [Перевод на английский язык предыдущей статьи — «Визан-тиjа и Jужни Словени»].
-
41. Господин Константин Драгаш // Зборник Филозофског факултета Универ-зитета у Београду. VII, 1. 1963. C. 287–294.
-
42. Alexios Raul, Grossdomestikos von Serbien [Алексий Раул — великий доместик Сербии] // Festschrift für P.E. Schramm. Wiesbaden. 1964. S. 340–352.
-
43. Христопољ између Срба и Византинаца [Христополь между сербами и византийцами] // Зборник Филозофског факултета Универзитета у Београду. VIII, 1. 1964. C. 333–342.
-
44. La prise de Serrès par les Turcs [Взятие г. Серры турками] // Byzantion. 35, 1965. P. 302–319.
-
45. The Byzantine Background of the Moravian Mission [Византийские основы моравской миссии] // Dumbarton Oaks papers. 19. 1965. P. 1–18.
-
46. Les juges généraux des Serrès [Судьи общей юрисдикции в г.Серры] // Mélanges René Crozet. Poitiers. 1966. P. 1317–1325.
-
47. The Palaeologi [Палеологи] // The Cambridge Medieval History. IV. 1966. P. 331–387, 897–908.
-
48. Византия и киевская княгиня Ольга // То Honor Roman Jakobson. Essays on the Occasion of his seventieth Birthday. Paris, 1967. Р. 1458–1473.
-
49. Autour d’un prostagme de Jean VIII Paleologue [По поводу простагмы Иоанна VIII Палеолога] // Зборник радова. Византолошки институт. 10. 1967. C. 63–85.
-
50. Problèmes des relations byzantino-serbes au XIVe siécle [Проблемы византийско-сербских отношений в XIV в.] // Proceedings of the XIIIth International Congress of Byzantine Studies. Oxford, 1967. P. 41–55.
-
51. Salari у prezzi a Bisanzio // I prezzi in Europa dal XII secolo a oggi. Torino, 1967. P. 47–85 [Перевод на итальянский язык статьи «Löhne und Preise in Byzanz»].
-
52. О серпском митрополиту Jакову [О серпском митрополите Иакове] // Зборник Филозофског факултета Универзитета у Београду. X. 1. 1968. C. 219–226.
-
53. Простагма српских владара [Простагма сербских правителей] // Прилози за књижевност, jезик, историjу и фолклор. 34. 1968. С. 245–257.
-
54. Das Chrysobull des Johannes Orsini für das Kloster Lykusada [Хрисовул Иоанна Орсини для монастыря Ликусада] // Зборник радова. Византолош-ки институт. 11. 1968. S. 205–213.
-
55. Die Pronoia unter den Komnenen [Прония при Комнинах] // Зборник радова. Византолошки институт. 12. 1970. S. 41 ff.
-
56. Света гора после Маричке битке [Святая гора после Маричской битвы] // Зборник Филозофског факултета Универзитета у Београду. 10/1. 1970. С. 277 и далее.
-
57. Observations on the aristocracy in Byzantium [Заметки о византийской аристократии] // Dumbarton Oaks papers. 25. 1971. Р. 1–32.
-
58. Эволюция византийского обряда коронования // Византия. Южные славяне и древняя Русь. Западная Европа. Искусство и культура. М., 1973. С. 43–52.
Кроме того, Г. Острогорский написал множество критических статей и рецензий, опубликованных в следующих научных журналах.
«Deutsche Literaturzeitung» (DLZ)
-
1. R. Guilland, Essai sur Nicéphore Grigora. Paris, 1926 // DLZ. 1927. P. 1697–1701.
-
2. F. Dölger, Beiträge zur Geschichte der byzantinischen Finanzenwuldung. Leipzig-Berlin, 1927 // DLZ. 1927. P. 2015–24.
-
3. H. Bott, Die Grundzüge der Diokletianischen Steuerverfassung. Diss. Frankfurt a. M., 1928 // DLZ. 1929. S. 1349–1353.
-
4. St. Runciman, The Emperor Romanus Lecapenus and his Reign. Cambridge, 1929 // DLZ. 1930. S. 1036–38.
-
5. A. Heisenberg, Zu den armenisch-byzantinischen Beziehungen am Anfang des XIII Jhs. München, 1929 // DLZ. 1930. S. 1279–81.
-
6. D. Laehr, Die Anfänge des russischen Reiches. Berlin, 1930 // DLZ. 1931. S. 170–176.
-
7. Gaudefroy-Demombynes et Platonov, Le monde musulman et byzantin jusqu’aux croisades. Paris, 1931 // DLZ. 1933. S. 1208–1209.
-
8. St. Runciman, A History of the First Bulgarian Empire. London, 1930 // DLZ. 1933. S. 1327–1330.
«Historische Zeitschrift» (HZ)
-
1. F. Dvornik, Les Slaves, Byzance et Rome. Paris, 1928 // HZ. 138. 1928. P. 152–156.
-
2. В.Е. Вальденберг, Речь Юстина II к Тиберию. Известия Акад. Наук СССР, 1928 // HZ. 142. 1929. S. 580–586.
-
3. H. Schaeder, Moskau das Dritte Rom. Hamburg, 1929 // HZ. 146. 1932. S. 368–371.
-
4. Heinrich von Staden, Aufzeichnungen über den Moskauer Staat. Hamburg, 1930 // HZ. 147. 1933. S. 617–622.
«Byzantinisch-Neugriechische Jahrbüecher» (BNJ)
-
1. Th. Uspensky et V. Beneševič, Actes de Vazélon. Leningrad, 1927 // BNJ. 6. 1929. S. 580–586.
«Byzantinische Zeitschrift» (BZ)
-
1. E.J. Martin, A History of the Iconoclastic Controversy. London, 1930 // BZ. 31. 1931. P. 382–392.
-
2. Я. Манандян, О торговле и городах Армении в связи с мировой торговлей древних времен. Эривань, 1930 // BZ. 32. 1932. S. 104–107.
-
3. G. Zoras, Le corporazioni bizantine. Roma, 1931 // BZ. 33. 1933. S. 389–395.
-
4. R. Helm, Untersuchungen über den auswärtigen diplomatischen Verkehr des röm. Reiches im Zeitalter der Spätantike. Archiv für Urkundenf. 12. 1932 // BZ. 36. 1936. S. 441–443.
-
5. H. Menges, Die Bilderlehre des hl. Johannes von Damaskus. Münster, 1938 // BZ. 39. 1939. S. 445–447.
-
6. O. Treitinger, Die oströmische Kaiser- und Reichsidee. Jena, 1938 // BZ. 41. 1941. S. 211–224.
-
7. W. Ohnsorge, Das Zweikaiserproblem im früheren Mittelalter. Die Bedeutung des byzantinischen Reiches für die Entwicklung der Staatsidee in Europa. Hildesheim, 1947 // BZ. 46. 1953. S. 153–158.
-
8. В. Мошин, Мартовско датирање. Историjски гласник. 1-2. 1951. С. 19–57 // BZ. 46. 1953. S. 170–174.
-
9. И. Божић, Доходак царски (поводом 198 члана Душановог законика Рако-вачког рукописа). САН. Посебна издања. Т. 254. Београд. 1956 // BZ. 53. 1960. S. 143–145.
-
10. G. Rouillard, La vie rurale dans l’Empire byzantin. Paris, 1953 // BZ. 47. 1954. S. 420–427.
«Seminarium Kondakovianum» (SK)
-
1. Обзор литературы по истории Византии на немецком языке с 1914 г. // SK. 1,.1927. C. 325–330.
-
2. Mélanges Charles Diehl. I. Paris, 1930 // SK. 5. 1932, C. 319–327.
«Annales de l’Institut Kondakov» (AIK)
-
1. А. Grabar, L’empereur dans l’art byzantin. Paris, 1936 // AIK. 9. 1937. C. 89–92; JИЧ. 3. 1937. C. 348–351.
-
2. L. Bréhier et R. Aigrain, Grégoire le Grand, les États barbares et la conquête arabe. Histoire de l’Église. Paris, 1938 // AIK. 11. 1940. C. 264–266.
-
3. G.I. Bratianu, Études Byzantines d’histoire économique et sociale. Paris, 1938 // AIK. 11. 1940. C. 266–268.
-
4. D. Xanalatos, Beiträge zur Wirtschafts- und Socialgeschichte Makedoniens im Mittelalter. Diss. München, 1937 // AIK. 11. 1940. C. 268–270.
-
5. E.H. Freshfield, Roman Law in the Later Roman Empire. Ordinances of Leo VI С. 895 from the Book of the Eparch. C AIK, 11, 1940. Cambridge, 1939 // AIK. 11. 1940. C. 270–271.
-
6. В. Мошин, Акти из светогорских архива. Споменик. 96. 1939. С. 153–260. // AIK. 11. 1940. C. 271–274.
«Jугословенски историjски часопис» (JИЧ)
-
1. В. Златарски, История на Българската Държава, I, 1 и 2, II, София, 1918, 1927 и 1934 // JИЧ. 1. 1935. С. 509–520.
-
2. Ch. Diehl et G. Marçais, Le monde orientale de 395 à 1081. Paris, 1936 // JИЧ.
-
2. 1936. С. 162–168.
«Byzantinoslavica» (BS)
-
1. L. Bréhier, Vie et mort de Byzance. Paris, 1947 // BS. 10. 1. 1949. P. 68–75.
-
2. А. Grabar, L’iconoclasme byzantin. Dossier archéologique. Paris, 1957 // BS. 21. 1960. P. 110–114.
«Историjски часопис» (ИЧ)
-
1. Вопросы истории 1945–1948 // ИЧ. 1. 1949. С. 352–354.
-
2. Constantine Porphyrogenitus, De administrando imperio, ed. Gy. Moravscik — R.J.H. Jenkins. Budapest, 1949 // ИЧ. 2. 1951. С. 197–199.
-
3. Ф.И. Успенский, История византийской империи, III, Москва-Ленинград. 1948 // ИЧ. 2. 1951. С. 206–209.
-
4. Нове публикациjе византиjских повеља // ИЧ. 2. 1951. С. 199–206.
«Entwicklung der geschichtlichen Südosteuropa-Forschung» (Südost-Forschungen)
-
1. F. Dölger, Byzantinische Diplomatik. Ettal, 1956 // Südost-Forschungen. 18. 1959. S. 244–247.
-
2. Gy. Moravscik, Byzantinoturcica. I-II. Berlin, 1958// Südost-Forschungen. 19. 1960. S. 401–403.
«Vierteljhrschrift für Sozial und Wirtschaftges-chichte» (VSWG)
-
1. J. Karayannopoulos, Das Finanzwessen des frühbyzantinischen Staates. München, 1958; Die Entstehung der byzantinischen Themenordung. München, 1959 // VSWG. 47. 1960. S. 258–263.
«Cahiers de civilization médiévale»
-
1. Ducellier, Les Byzantins. Paris, 1963 // Cahiers de civilization médiévale. 9. 1966. P. 409–411.
Ряд статей Г.А. Острогорский посвятил выдающимся византинистам своего времени и своим коллегам, таким как Ш. Диль, Дж. Б. Бьюри, М. Ласкарис, Г. Шлюмбергер, В.Г. Васильевский, Н.М. Беляев, Ф. Гранич, С. Станоевич, Д. Анастасиевич.
-
1. John B. Bury // Семинариум Кондаковианум. Вып. 2. Прага, 1928. C. 325–328.
-
2. Gustave Schlumberger // Семинариум Кондаковианум. Вып. 3. Прага, 1929. C. 292–294.
-
3. Н.М. Беляев. // Seminarium Kondakovianum V, 1932. P. 253-260.
-
4. Станоjе Станоjевиħ // Annales de l’Institut Kondakov. 9. 1937. P. 86–87.
-
5. Рад Ст. Станоjевиħа на проучавању касниjег Средњег века византиjске историjе // Гласник истор. Друштва у Новом Саду. 11. 1938. С. 67–74.
-
6. В.Г. Васильевский как византинист и создатель современной русской византоло-гии // Annales de 1’Institut Kondakov. Vol. XI. 1940. P. 227-235.
-
7. Филарет Гранић 1883-1948 // Byzantinoslavica. 10, 1. 1949. S. 135–138; Историjски часопис. 1, 1949. С. 399-402.
-
8. Академик Драгутин Анастасиjевић // Универ. весник. 25. 1950. Перевод на франц. яз. в: Byzantion. 22. 1952. P. 532–537.
-
9. Charles Diehl // Старинар. 2. 1951. С. 351–353.
-
10. In memoriam: Михаило Ласкарис // Хиландарски зборник. 1. 1966. С. 183–195.
За послевоенный период своей научной деятельности Г.А. Острогорский издал несколько монографий.
-
1. Прониjа. Прилог историjи феудализма у Византиjи и у jужнословенским земљама. Књ. 1 [Прония. Заметки об истории феодализма в Византии и в южнославянских землях] // Посебна издања Византолошког института. Београд, 1951. 200 c.
-
2. Pour ľhistoire de la féodalité Byzantine [К истории византийского феодализма] // Corpus Bruxellense Historiae Byzantinae, Subsidia I. Bruxelles, 1954. 388 p.[Издание на французском языке 2 работ Г. Острогорского — «Прониjа. Прилог истории фе-удализма у Византиjи и у jужнославянским земљама» и «Византийские писцовые книги» (перевод А. Грегуара при сотрудничестве П. Лемерля)].
-
3. Quelques problèmes d’histoire de la paysannerie Byzantine [О некоторых проблемах истории византийского крестьянства] // Corpus Bruxel-lense Historiae Byzantinae, Subsidia II, Bruxelles, 1956. 79 p.
-
4. Српска област после Душанове смрти [Серпская область после смерти Душана] // Посебна издања Византолошког института. Књ. 9. Београд, 1965. 171 с.
Ученый подготовил к изданию 6-томное собрание сочинений, сформировав свои произведения по тематическому принципу.
-
1. О византиjском феудализму. Књ. 1. Београд, 1969 [О византийском феодализме].
-
2. Привреда и друштво у Византиjском царству. Књ. 2. Београд, 1970 [Хозяйство и общество в Византии].
-
3. Из византиjске историjе и просопографиjе. Књ. 3. Београд, 1970 [Из византийской истории и просопографии].
-
4. Византиjа и словени. Књ. 4. Београд, 1970 [Византия и славяне].
-
5. О веровањима и схватањима византинаца. Књ. 5. Београд, 1970 [О византийской вере и менталитете].
-
6. Историjа Византиjе. Књ. 6. Београд, 1970 [История Византии].
Издания «Истории Византийского государства»
-
1. Geschichte des byzantinischen Staates Handbuch der Altertumswissenschaft. XII. 1.2. München, C.H. Beck, 1940. 448 S.
-
2. Историjа Византиjе. Београд, 1947. 296 c.
-
3. Geschichte des byzantinischen Staates Handbuch der Altertumswissenschaft. XII. 1.2. München, C.H. Beck, 1952. 496 S.
-
4. Histoire de l’État byzantin. Paris: Payot, 1956. 548 p. [Перевод на французский Ж. Гуйара].
-
5. History of the Byzantine State. New Brunswick – New Jersey: Rutgers University Press, 1957. 548 p. [Перевод на английский Дж. М. Хасси].
-
6. Историjа Византиjе. Београд, 1959. 528 c.
-
7. Zgodovina Bizanca — Ljubljana — Državna založba Slovenije. 1961, 602 s. [Перевод на словенский Jože in Millena Zupančič].
-
8. Geschichte des byzantinischen Staates Handbuch der Altertumswissenschaft. XII. 1.2. München: C.H. Beck, 1963. 514 S.
-
9. Dzieje Bizancjum. Варшава. 1-ое изд. 1967; 2-ое изд. 1968. 500 с. [Перевод на польский Халины Эверт-Каппесовой].
-
10. Storia dell’ impero bizantino. Torino, 1968. 568 p. [Перевод на итальянский Пьеро Леоне].
-
11. History of the Byzantine State. Oxford: B.Blackwell, 1968. 616 p.
-
12. History of the Byzantine State. New Brunswick – New Jersey: Rutgers University Press, 1969. 624 p., 98 ill., 14 maps [Перевод на английский Дж. М. Хасси].
-
13. Историjа Византиjе. Београд, 1970. 607 c.
-
14. Историjа Византиjе. Београд, 1993. 607 c.
-
15. Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους, Αθηνα 1978. 506 с., 9 карт [Перевод на греческий Иоанна Панагопулоса].
-
16. History of the Byzantine State, New Brunswick — New Jersey: Rutgers University Press, 1995. 624 p.
-
17. ビザンチン 国家 史 [Видзанцу кокка си]. Токио, 1999 [Перевод на японский Вада Хиросинa, профессорa университета Цукуба].
-
18. A bizánci állam története. Budapest: Osiris, 2001 [Перевод на венгерский].
-
19. История на Византийската държава. София: Прозорец, 2002. 173 с. [Перевод на болгарский].
-
20. Istorija Vizantiï. L’viv: Litopys, 2002 [Перевод на украинский].
Список литературы Русская византология в Европе и труды академика Г.А. Острогорского
- Арсеньев А. Биографски именик руских емиграната//Руска емиграциjа у српскоj култури XX века. Зборник радова: В 2-х т. Београд, 1994. Т. 2. С. 225-326.
- Вандалковская М.Г. Историческая наука российской эмиграции в Европе в 20-30-е гг. (Основные центры, направления и проблемы)//Культурное насле-дие российской эмиграции: 1917-1940. В 2 кн. Кн. 1. М., 1994. С. 71-79.
- Горянов Б.Т. Г.А. Острогорский и его труды по истории Византии//Вопросы истории. 1945. № 3-4, С. 135-142.
- Иванов И.А. Г.А. Острогорский: вклад в Византологию (предисловие к публика-ции)//Христианское чтение. 2007. 28. С. 185-190.
- Иванов И.А. Творчество академика Г.А. Острогорского в эмиграции (биобиблио-графический очерк)//Вестник ИНЖЭКОНА. 2008. 4 (23). С. 218-226.
- Историческая наука российской эмиграции 20-30-х гг. ХХ века (Хроника) Сост. С.А. Александров. М., 1998. 312 с.
- Йованович М. Русская эмиграция на Балканах: 1920-1940/Пер. с сербск. А.Ю. Тимофеева. Науч. ред. А.В. Громова-Колли, Е.В. Михайлова. 2006. 488 с.
- Ковалевский П.Е. Зарубежная Россия. История и культурно-просветительная ра-бота русского зарубежья за полвека (1920-1970). Париж, 1971. 348 с.
- Косик В.И., Тесемников В.А. Вклад русской эмиграции в культуру Югославии//Педагогика. 1994. № 5.
- Косик В.И. Что мне до вас, мостовые Белграда?: Очерки о русской эмиграции в Белграде (1920-1950-е годы). Ч. 1/Институт славяноведения РАН. М., 2007.
- Культурное наследие российской эмиграции. 1917-1940. В 2 кн. Кн. 1. М.: Насле-дие, 1994. 520 с.
- Наумов Е.П. Новая работа по истории сербо-византийских отношений в XIV в. (Рец. на монографию Т.А. Острогорского «Серрская область после смерти Душа-на»)//Византийский временник. Т. 29 (54). 1968. С. 304-307.
- Пашуто В.Т. Русские историки эмигранты в Европе. М.: Наука, 1992. 400 с.
- Постников С.П. Русские в Праге. 1918-1928. Прага, 1928. 354 с.
- Радич Р. Георгий Острогорский и сербская византология//Русская эмиграция в Югославии. С. 200-207.
- Русские писатели эмиграции: Биографические сведения и библиография их книг по богословию, религиозной философии, церковной истории и православной культуре: 1921-1972/Сост. Н.М. Зернов.Boston: G.K. Hall & Co., 1973.
- Спекторский Е., Давац В. Материалы для библиографии русских научных трудов за рубежом. Т. I. Белград, 1931. 2-ое изд. 1972 г.
- Тесемников В.А. Русские профессора Белградского университета (1919-1941 гг.)//Педагогика. 1998. №5.
- Ферjанчиħ Б. Академик Георгиjе Острогорски у светскоj византологиjи//Збор-ник радова Византолошког института. XVIII. 1978.
- Krekić B. Medieval Scholarship: Biographical Studies on the Formation of a Discipline. Vol. 1. N. Y., London, 1995. S. 301-311.
- Rouillard G. A propos d’un ouvrage recent sur 1’histoire de 1’Etat byzantin//Revue de philologie. 3 ser. Vol. XIV. 1942. P. 169-180.