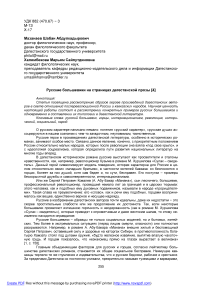Русские большевики на страницах дагестанской прозы
Автор: Мазанаев Шабан Абдулкадырович, Халимбекова Марьям Сайпутдиновна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 3, 2010 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рассмотрению образов героев произведений дагестанских авторов в свете отношений послереволюционной России и кавказских народов. Научная ценность настоящей работы состоит в рассмотрении конкретных примеров русских большевиков и одновременно в составлении их типологии в дагестанской литературе.
Русский большевик, горцы, интернационализм, революция, исторический, социальный, народ
Короткий адрес: https://sciup.org/14932936
IDR: 14932936 | УДК: 882
Текст научной статьи Русские большевики на страницах дагестанской прозы
О русском характере написано немало: понятия «русский характер», «русская душа» ассоциируются в нашем сознании с чем-то загадочным, неуловимым, таинственным.
Русские герои в произведениях дагестанской литературы, особенно в исторических романах, занимают особое место. Связано данное явление, конечно, с приоритетным положением России относительно малых народов, которых после революции она взяла «под свое крыло», и с идеологией соцреализма, которая определила пути развития национальных литератур на многие годы вперед.
В дагестанском историческом романе русские выступают как просветители и эталоны нравственности, как, например, революционер Кузьма в романе М. Хуршилова «Сулак – свидетель». Данный герой символизирует модель поведения, которая характерна для России в целом относительно своих «младших братьев», в частности жителей Кавказа: он беспокоится о горцах, болеет за них душой, хотя сам беден и, по сути, бесправен. Его поступки – примеры бескорыстной дружбы и самоотверженности, интернационализма.
Или же Сергей Петрович Ковалев (А. Абу-Бакар «Манана»), сын лесничего, большевик, профессиональный революционер, проведший немало лет за границей и в царских тюрьмах: этого человека, как и подобных ему духовных подвижников, называли в народе «прорицателями». Такая слава не преувеличение: его «слово», как и речи ему подобных, горцами воспринималось как вещее, единственно верное и несущее надежду.
Русские в изображении дагестанских авторов почти идеальны, даже их недостатки - это скорее простительные слабости или же продолжение их достоинств. Так, если некоторые большевики проявляют излишнюю горячность и несдержанность (как в романе М. Хуршилова «Сулак – свидетель»), которые приводят к опрометчивым и даже жестоким шагам, то этому неизменно находится оправдание.
Русские большевики – образцы не только социальных моделей, но и бытовых, житейских. Тем более в экстремальных ситуациях (перед лицом смерти, опасности) они полностью раскрываются. Например, в романе А. Абу-Бакара «Манана» внешне хилый и беспомощный Сергей Петрович, оставивший силу и здоровье на каторгах Сибири, в противоположность богатырю Хамзату стоял под дулами оружий, «будто железное изваяние, выпятив впалую чахоточную грудь. И горцам показалось, что незнакомец прямо на глазах вырастает в великана» [1, с. 158].
Главным объединяющим фактором для русских и горцев, согласно лейтмотиву большинства дагестанских романов, становится их общее социальное бесправие. Неимущие кавказцы терпели те же глумления и издевательства, что и русские бедняки, рабочие и крестьяне. За пределами Дагестана их постоянно унижали, презрительно называя туземцами и варварами, то и дело оскорбляя их национальные чувства, так что в родном государстве они чувствовали себя чужаками и изгоями. Большевики же с их интернационализмом и подчеркнуто уважительным отношением к специфичному национальному менталитету не могли не привлечь горцев.
Примечательно, что для богатого русского сословия русские бедняки – такие же чужаки («туземцы»), как и дагестанцы: «Пристав и надзиратель – они обижают бедный свой и наш народ, взятки берут. Черное горе идет от них. Есть много Иванов, очень много на заводах, нашему бедному народу помогают» [2, с. 63]. Контрреволюция пытается втянуть народы в братоубийственную войну, но у чеченцев, аварцев, кумыков, как и у других бедных людей, есть объединяющая их цель – завоевать себе лучшую жизнь, разделавшись с прежними порядками.
Показательным в этом смысле является случай с пушкой в романе М.-С. Яхьяева «Три солнца», ставшей поначалу причиной раздора между русскими и дагестанскими солдатами, а затем и символом их единства. В результате пушка была отдана дагестанцам в подарок, и простояла перед их казармой как постоянное напоминание о вечной братской дружбе русских и дагестанцев, сражавшихся плечом к плечу с контрреволюционерами. Итогом этого недоразумения стало кочевание злосчастной пушки в течение недели от одной казармы к другой в знак взаимного дружеского расположения и, в конце концов, ее уничтожение.
Русским большевикам приходится преодолевать не только классовое сопротивление, но и стойкое предубеждение, очевидно, генетического векового характера, идущее еще от неоднократной царской экспансии против непокорного горского народа. Антибольшевистская пропаганда все еще активно действовала на отдельные части населения: легенда о том, что русские пришли, чтобы вновь закабалить горцев, оказалась весьма живучей.
Недоверие к русским было очень серьезной помехой в пропаганде революционных мыслей и идей. Большевики понимали, что с этим наследием, которое оставил после себя самодержавный строй, предстоит нелегкая борьба: не могли люди сразу поверить, что свобода придет оттуда, откуда раньше они видели лишь произвол, насилие, грабительские поборы и поощрение местных богачей.
Недаром контрреволюция напирает на то, что социалисты якобы вновь желают навязать самодержавные порядки: по их утверждению, не для того бились когда-то Казимагомед и Шамиль - им нужна была свобода, так что нужно всячески избавляться от «русской опеки». Как точно отмечает У. Буйнакский в романе «Три солнца», в многонациональном Дагестане, где издавна классовое и национальное угнетение порождало неприязнь ко всему русскому, не так-то просто было убедить массы, что отныне Россия принесет им не гнет, а свободу.
В итоге У. Буйнакский ставит вопрос очень широко, и сама его постановка в романе достаточно неожиданна: революционер, выражая мнение очень многих, задается вопросом о том, исчезнет или сохранится национальное своеобразие Дагестана при коммунизме. Такая философская риторика значительно углубляет однообразно социальную ткань повествования, а приятие или неприятие русских горцами приравнивается к приятию/неприятию самой революции, идея которой, в понимании дагестанцев, «абсолютно русская».
И. Керимов в романе «Махач» подчеркивает тот факт, что среди дел первоочередной важности для Ленина, Кирова, Орджоникидзе и других видных деятелей революции была забота о скорейшей помощи Дагестану. Советская Россия считала своей прямой и главной целью немедленную помощь революционным силам Северного Кавказа в их борьбе за победу власти большевиков.
Тема революции как явления «иноземного происхождения» поднимает и проблему восприятия всяческих нововведений, ассимиляции как таковой: от русских реформаторов, какими бы благими целями они ни руководствовались, требовался максимальный такт при вторжении в чужую культуру и, конечно, уважение к чужим представлениям о морали.
Примечателен в данном контексте диалог Кирова и Ленина в романе М.-С. Яхьяева «Три солнца» как выражение ключевой оценки национального горского характера. Именно его тонкое понимание – обязательное требование при проведении революционных преобразований в «местном ландшафте»:
«- Чудесный народ эти кавказцы! Бесстрашие просто поразительное. И какое-то особое чувство собственного достоинства. Высоко голову держат! Что это? Врожденное? Или их так сызмала воспитывают? Ты ведь жил на Кавказе. Как думаешь?
-
- Горы. Суровые условия жизни. На вершинах вечный снег. В долинах зной. Неприступные скалы. Узкие крутые тропы. На каждом шагу подстерегает опасность. Сами условия существования вынуждают их быть бесстрашными. А иначе в горах не проживешь, – ответил Киров.
-
– Очевидно, ты прав. Знаешь, о чем я подумал? Таких людей, как Буйнакский, мы должны особенно беречь. И выдвигать. Их пока, к сожалению, не так уж много. Но один настоящий большевик из горцев там, в Дагестане, для нас стократ необходимее, чем десятки рус-
- ских товарищей, которых мы туда посылаем. Очень важно ведь знать душу народа, тончайшие изгибы национального характера…» [3, с. 281].
Таким образом, Россия для горцев становится источником всесторонней помощи в противоположность другим соседям, которые ведут агрессивную политику по отношению к малым народам. Советская Россия в лице большевиков выказывает беззаветную отеческую заботу и опеку, помня о том, что горцы ждут скорой и решительной поддержки в период смертельной опасности для своей молодой республики.
Ссылки и примечания:
-
1. Абу-Бакар А. Манана. М.: Современник. 1987. 330 с.
-
2. Хуршилов М. Сулак-свидетель. Махачкала: Дагестанское книжное издательство. 1990. 365 с.
-
3. Яхъяев М. С. Три солнца: Повесть об Уллубии Буйнакском. Махачкала: Дагестанское книжное издательство. 1985. 298с.
-
4. Статья выполнена и опубликована в рамках проекта «Филологические проблемы современного дагестановедения: исследования языков, фольклора и литератур народов Да-гестана»,№ НК-73 П.
Список литературы Русские большевики на страницах дагестанской прозы
- Абу-Бакар А. Манана. М.: Современник. 1987. 330 с.
- Хуршилов М. Сулак-свидетель. Махачкала: Дагестанское книжное издательство. 1990. 365 с.
- Яхъяев М. С. Три солнца: Повесть об Уллубии Буйнакском. Махачкала: Дагестанское книжное издательство. 1985. 298с. 4.
- Статья выполнена и опубликована в рамках проекта «Филологические проблемы современного дагестановедения: исследования языков, фольклора и литератур народов Дагестана»,№ НК-73 П.