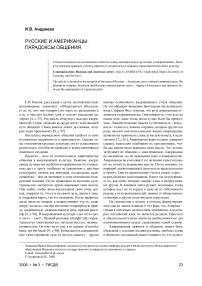Русские и американцы: парадоксы общения
Автор: Андреева Ирина Владимировна
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Филология: литературоведение, лингвистика
Статья в выпуске: 3 (3), 2008 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованиям в области коммуникации между русскими и американцами. Делается попытка сравнить степень прямоты и открытости в общении представителей обеих культур.
Короткий адрес: https://sciup.org/170175126
IDR: 170175126
Текст научной статьи Русские и американцы: парадоксы общения
Ю. В. Босин отмечает, что «простота в общении, безусловно, помогает решать много проблем. Если, например, на работе назревает конфликт с подчиненными, все претензии высказываются прямо, без намеков и витиеватости. Или поступают проще — посылают ему сообщение по электронной почте. Если работник хочет прибавку к жалованию, он так и говорит об этом начальнику. Тот без обиняков отвечает — да или нет. Это не означает, конечно, что в Америке в отношениях между людьми, особенно в коллективах, нет интриг, каверз, подводных течений, подхалимажа перед начальством или унижения нижестоящих. Но все это происходит не в грубых формах, с улыбками и соблюдением норм вежливости» [2, с. 194].
При этом те же самые позиции индивидуализма ограничивают прямоту и искренность в общении американцев. С точки зрения русских, американская прямота довольно относительна.
В целом русские в общении более прямы и открыты. Они высказывают свои мысли откровенно, называя вещи своими именами, ценят искренность в общении. Русским также присуща эмоциональность в разговоре, и их высказывания идут не от ума и логики, а «от души и от сердца». Русским труднее, чем американцам, говорить «нет» в ситуациях, когда они не согласны с собеседником или вынуждены ему отказать. Они часто используют возможности сказать «нет» окольным, непрямым путем. Если человек колеблется с ответом, значит, он с вами не согласен, хотя и не сказал этого прямо [8, с. 137]. Русские могут уклониться от ответа на вопрос, если знают, что правда может ранить собеседника. Они будут думать об этом, мучиться, искать возможные пути сказать правду и в то же время не обидеть, не задеть. В таких ситуациях они могут использовать намеки, как бы постепенно подготавливая человека к суровой правде жизни. С другой стороны, русские достаточно смелы в ситуации, когда выражение своего мнения может стоить хорошего отношения начальства и даже дальнейшего карьерного роста. В ситуации реальной опасности они «режут правду-матку» в глаза, не думая о возможных последствиях. Русские любят искренность, кривить душой для них большая нравственная проблема.
Существует в русской культуре и такое понятие, как «святая ложь». Так, является нормой, когда врач не говорит пациенту о серьезности его болезни, а сообщает настоящее положение дел только его ближайшим родственникам. Те в свою очередь скрывают страшную правду от близкого человека, настраивая его позитивно, обманывая его до тех пор, пока это возможно. Это сложно понять американцам: в их стране врачи — по русским меркам — жестоко и безапелляционно сообщают пациенту смертельный диагноз. Вот что пишет по этому поводу С. Г. Тер-Минасова: «У известного артиста Евгения Евстигнеева заболело сердце. В зарубежной клинике ему сделали коронографию и, как это приня- то у западных медиков, принесли графическое изображение сердца и объяснили все подробно и прямо: «Вот, видите, сколько сосудов у вас не работает, нужна срочная операция». Евстигнеев сказал: «Понятно», и умер. В традициях нашей медицины с больными принято говорить мягче, щадяще, прибегая порой к полуправдам и «лжи во спасение». Каждый из этих путей имеет свои достоинства и недостатки — речь идет не об их оценке, а о том, что привычно и принято, а что ново, непривычно и поэтому пугает. От испуга повышается давление, и сердцу лучше не становится» [6, с. 23, 24].
Чем же отличается прямота и искренность в общении у русских и американцев?
Представители обеих культур могут недоговаривать или уклоняться от прямой оценки, но русские делают это из не жела ния кого-то задеть или оби деть , американцы — из уважения к ин ди ви дуаль но сти каждого и из соображений полит коррект но сти .
С. Г. Тер-Минасова констатирует, что «политическая корректность требует убрать из языка все те языковые единицы, которые задевают чувства, достоинство индивидуума, вернее, найти для них соответствующие нейтральные или положительные эвфемизмы» [6, с. 215]. Воспользуемся иллюстрациями этого исследователя таких языковых замен.
Изменения «расистских слов и словосочетаний. Negro > colored > black > African American / Afro-American [негр > черный > африканский американец / афроамериканец];
Результаты побед на разных уровнях языка феминистского движения. Обращение Ms , которое не дискриминирует женщину, поскольку не определяет ее как замужнюю Mrs [миссис] или незамужнюю Miss [мисс]; chairman [председатель] > chairperson; spokesman [делегат] > spokesperson и т. д.
Разные группы социально ущемленных людей. Invalid > handicapped > disable > differently-abled > physically challenged [инвалид > с физическими / умственными недостатками > покалеченный > с иными возможностями > человек, преодолевающий трудно сти из-за своего физического состояния]; bin man > refuse collec tors [человек, роющийся в помойках > собиратель вещей, от которых отказались].
С. Фол считает, что «американцы пытаются закрепить в языке свое оптимистическое отношение к жизни. Если человек едва не отправился на тот свет, он «прошел сквозь жизнеутверждающее испытание». Товары, которые едва удается продать за полцены, называют не неликвидами, а «не самым оптимальным ассортиментом». Если после интервью потенциальный работодатель дает вам от ворот поворот, у вас «не сложилось полного взаимопонимания» [7, с. 71].
«Стремительно распространяясь, политическая корректность доходит до крайностей (например, требуя заменить history [история] на herstory), становится предметом насмешек, развлечения, юмора. В результа- те эффект «корректности снижается, иногда получается обратный, прямо противоположный», — приходит к заключению С. Г. Тер-Минасова [6, с. 215—218].
Созвучное этой мысли высказывание мы находим у Ю. В. Босина: «Политическая корректность постепенно занимает место государственной идеологии со всеми вытекающими отсюда последствиями. С одной стороны, она защищает положительные человеческие ценности, в какой-то степени воспитывает общество. С другой стороны, часто стремление соблюсти политическую корректность любой ценой затушевывает реальные проблемы, лакирует действительность и может незаметно привести к созданию атмосферы лжи, неискренности и полной нетерпимости к инакомыслию» [2, с. 200].
Проиллюстрировать желание быть вежливыми, никого не обидеть нам хотелось бы советами A. Чар-ток — волонтера Корпуса мира США, — как отвечать на трудные вопросы русских: «Когда русские узнают, что я из Америки, они всегда задают один и тот же вопрос: «Как вам Россия?» Найти ответ практически невозможно, ведь столько противоречивых мыслей и эмоций переполняет каждого иностранца в России. Как же нам отвечать? Официальная цель должна была бы заключаться в открытии дискуссии по межкультурной коммуникации. Но цель, конечно, другая: ответить быстро и правильно, и более всего, никого не обидеть. Во-первых, мне кажется, что я обязательно должна сказать, что мне здесь трудно зимой. Это потому, что русским так нравится это слышать <…> от неуклюжих американцев. Во-вторых, даже если мы на самом деле жалуемся, что русские постоянно так много нас кормят, то это тоже им приятно слышать. Они ценят щедрость, особенно в еде. <…> Американцы не смогли бы представить настоящий русский стол. Такое нужно пережить, чтобы поверить. В-третьих, русским обязательно нужно говорить, что у них удивительно красивые женщины. Почему? — спросите вы. — Потому что, если вы так не скажете, то все равно вам зададут такой вопрос; причем на самом деле это так и есть. Когда мы отвечаем на эти вопросы, наша главная цель — это избежать второго обычного вопроса: «Где сейчас лучше живут — в Америке или в России?» Этот вопрос никому не удобен. Кто хочет слышать, что жизнь в другой стране легче? Иногда мне кажется, что на самом деле русским нравится страдать, переживая весь этот кризис, жаловаться на политиков, на цены, на инфляцию и на массу других вещей. Разве вы не замечали эти удивленные разговоры о взлетевших ценах, в которых было какое-то гротескное наслаждение? Можно сказать, что в России нескучно, и русские даже гордятся этим. Итак, когда вам задают вопрос: «Как вам Россия?» — нужно отвечать так: «Русский народ щедрый, женщины красивы, и жизнь здесь никогда не скучная». Если вы хотите, добавьте, что вам нравятся и борщ, и пельмени, потому что это обязательно третий и четвертый вопросы, прежде чем вам нужно будет говорить о Клинтоне».
Стремление обойти острые углы, никого не обидеть, ответить так, чтобы собеседнику было приятно, при этом избежать «трудных» вопросов, а вовсе не прямо высказать свое собственное мнение пронизывает все советы А. Чарток.
Русским труднее говорить «нет», чем американцам. Также трудно им бывает говорить «да» в некоторых ситуациях. Им бывает трудно понять, что американское «да» всегда значит именно «да», а «нет» — это «нет».
Интересна в этом отношении проблема «с навязчивостью и непонятливостью всех русских мам» у волонтеров Корпуса мира США, проживавших в русских семьях, по условиям программы в течение подготовки к службе в России. Несмотря на отказ, американцам снова и снова предлагали чай или кофе. «Может быть, мы плохо говорим по-русски, почему они не понимают «нет»?!!» — спрашивали волонтеры своих преподавателей. Приходилось им объяснять, что русские, как правило, отказываются от первого приглашения к столу, даже если они действительно голодны или их мучит жажда. Для русского менталитета «характерна повышенная деликатность, нежелание затруднить, обидеть, совершенно независимо от здравого смысла. Они вполне могут отказаться от предлагаемой еды, питья, услуг; часто именно такой бывает их первая реакция: «Спасибо, не надо, все в порядке» [6, с. 172]. Мы советовали своим студентам не только не обижаться на русских, но и не забывать не менее 3 раз предлагать угощение своим русским гостям, только после третьего раза вы можете быть уверены, что ваш гость действительно не хочет ни есть, ни пить.
Мы уже отмечали, что американская прямота, базирующаяся на уважении к собственной личности, имеющей право открыто высказывать собственное мнение, сталкивается с уважением индивидуальности других людей, которым может быть неприятно слышать что-то негативное о себе. И здесь американская прямота принимает, по русским меркам, очень непонятные формы.
Во-первых, американцы, как правило, не выясняют отношений друг с другом, даже с близкими друзьями. При возникновении разногласий или проблем они используют принципиально разные тактики устранения этих разногласий.
Русские пытаются напрямую выяснить отношения, разобраться в ситуации, как правило, один на один. Они дорожат дружескими отношениями, стараются их сохранить и не посвящают в личные взаимоотношения других людей. Исключением являются ситуации, когда они нуждаются в поддержке и дружеском совете — в таком случае доверенное лицо держит информацию в секрете и не посвящает в нее других людей, тем более заинтересованное лицо. Американцы для разрешения конфликтных ситуаций используют посредников. О возникших личных проблемах они рассказывают общим знакомым и, не вдаваясь в детали и суть возникшего конфликта, показывают, что их очень волнуют отношения с данным человеком. Друзья, в свою очередь, передают «обидчику» (или «обиженному»), что доверитель волнуется и переживает по поводу возникших недоразумений. Встречаясь после этого, обе стороны ведут себя приветливо, по-дружески, чтобы продемонстрировать, что они по-прежнему друг другу интересны, и это означает, что конфликт исчерпан и отношения продолжаются. Попытка «выяснить отношения», разобраться, почему произошла та или иная ситуация, ведет к разрыву дружеских отношений — на свете так много людей, что не стоит тратить драгоценное время на «сложные» отношения. Для русских такой подход неприемлем.
В производственных конфликтах ситуация повторяется. Так, и русский, и американский студент, недовольные какими-то действиями преподавателя, не будут, как правило, высказывать ему недовольство. Русский — потому что российская система взаимоотношений учитель—ученик не допускает критики в адрес учителя, мало того, может быть чревата для студента репрессивными мерами. Американская система гораздо более демократична, за студентом признается как право критики, так и возможность дать совет преподавателю, как лучше его, студента, учить. Но американский студент идет со своими жалобами не к преподавателю, а к его вышестоящему начальнику, представителю администрации. При этом он не намеревается нанести вред преподавателю, он руководствуется только практическими целями — получить качественное образование, лично к преподавателю он может испытывать вполне дружеские чувства. Представитель администрации в тренинге Корпуса мира — это координатор по лингвистической программе, он выслушивает все претензии студента, посещает занятие, разъясняет обеим сторонам, кто и в чем должен изменить свое поведение, чтобы атмосфера на занятиях улучшилась и процесс обучения стал более эффективным. Если конфликт не разрешен, стороны не пришли к соглашению, то координатору приходится ставить в известность о происходящем директора программы. При этом участники конфликта напрямую не сталкиваются и друг с другом ничего не выясняют. Кроме того, работа преподавателя оценивается не менее тщательно, чем работа студента, и не только администрацией, но и самими студентами. Происходит эта оценка в виде письменного анкетирования, результаты которого сообщаются конфиденциально. Это тоже проявление прямоты и искренности по-американски: человек должен знать, над чем ему надо работать, чтобы улучшать свои профессиональные качества. Как правило, чем лучше студент относится к преподавателю, тем тщательнее он фиксирует малейшие изъяны в его методике, совершенно искренне полагая, что он должен потратить свое драгоценное время, чтобы проанализировать каждый нюанс деятельности этого приятного ему человека. Всегда есть поле для совершенствования.
Проблемы, возникающие между волонтерами и их русскими семьями, также решаются представителем администрации — координатором по культурной программе и никогда — лично американцами напрямую.
Во-вторых, у русских не принята открытая публичная критика, без предварительных попыток уладить вопрос между собой. Для иллюстрации этого положения тоже подойдет пример из тренинга по подготовке волонтеров. Перед началом занятий второй бизнес-про-граммы были приняты небольшие планерки (10—15 минут), на которых все могли говорить о том, как идут у них дела и какие проблемы их тревожат. Один из волонтеров сообщил всему коллективу тренинга, что преподаватели в его группе мало внимания уделяют работе с языком специальности — бизнес-лексикой и что, на его взгляд, это большой недостаток программы, и с этим надо что-то делать. Особых комментариев по этому поводу не последовало, но преподаватели группы буквально онемели от возмущения. Их возмутила не критика со стороны американского студента (была ли она справедливой, они в тот момент не могли даже и думать), а то, что ни разу — ни на уроке, ни после — их студент, который казался таким открытым и дружелюбным, не сказал им, что его что-то не устраивает. К чести и русских, и американцев, а точнее благодаря тому, что в обеих культурах принято добиваться ясности и обсуждать конфликтные ситуации, взаимопонимание было достигнуто, правда, в русской традиции — то есть за рамками общего собрания. Преподаватели объяснили студенту, что они никогда не обиделись бы, если бы он хоть раз сказал им до того, как выносить на общий суд, то, чем он недоволен, а уж если бы они никак не отреагировали на его замечание, его выступление на собрании было бы совершенно справедливо. Студент в свою очередь объяснил, что такие проблемы есть во всех группах, и он хотел обратить внимание всех на плохое состояние отработки языка специальности, и ни в коем случае не обвинить в чем-то своих преподавателей персонально.
В-третьих, в своих критических высказываниях американцы гораздо более деликатны, критикуют существующий эпизод деятельности, а не всю деятельность в целом, не демонстрируют личную неприязнь. По свидетельству С. А. Полозова, в США уделяется большое внимание «концепции предотвращения и разрешения конфликтов в коллективе. Даже маленьким детям рассказывают, что и как надо делать в случаях возникновения возможности конфликта. Придавая такое значение уважению к личности и «прайвеси» окружающих и требуя от ребенка соблюдения соответствующих поведенческих норм, американцы исходно внедряют в их жизнь весьма высокие стандарты взаимной терпимости и взаимоуважения» [5, с. 136].
Что касается русских, то следует признать, что мы во время спора гораздо менее вежливы, скорее наоборот — агрессивны и категоричны в суждениях.
Н. А. Бердяев отмечает: «Русские очень легко задевают личность другого человека, говорят вещи обидные, бывают неделикатны, имеют мало уважения к тайне всякой личности. Русские самолюбивы, задевают самолюбие другого и сами бывают задеты. При обсуждении идей легко переходят на личную почву и говорят не столько о ваших идеях, сколько о вас и ваших недостатках» [1, с. 533].
Что касается деловой сферы, то «американцы с самого начала разговора „раскрывают свои карты“, а затем продолжают беседу на основе предложений и контрпредложений. Они часто испытывают затруднения, когда противоположная сторона не раскрывает своих намерений» [3].
Таким образом, мы приходим к выводу, что в обеих культурах ценится прямота и открытость в общении. Русским труднее, чем американцам, говорить «нет» в ситуациях, когда они не согласны с собеседником, или вынуждены ему отказать. Американцы, как правило, не выясняют отношений друг с другом, даже с близкими друзьями. При возникновении разногласий, споров и других проблем русские и американцы используют принципиально разные тактики их устранения: американцам помогают посредники, русские пытаются разобраться в ситуации, как правило, один на один.
Список литературы Русские и американцы: парадоксы общения
- Бердяев Н.А. Русская идея. Харьков: Фолио, 2002. 617 с.
- Босин Ю.В. Как американцы живут в Америке, и что полезно знать, отправляясь туда в первый раз: Информация, советы, описания, рекомендации. М.: Сарма, 1999. 274 с.
- Льюис Р. Д. Деловые культуры в международном бизнесе. От столкновения к взаимопониманию: пер. с англ. М.: Дело, 1999. 440 с.
- Пассов Е.И. Диалог культур: социальный и образовательный аспекты//Мир русского слова. 2001. № 2. С. 52-63.
- Полозов С.А. Сделано в США. М.: Эксмо, 2003. 416 с.
- Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация. М.: Слово, 2000. 624 с.
- Faul S. Xenophobe's Guide to the Americans. London: Oval Book, 1999. 360 p.
- Lebedko M. Culture Bump: Overcoming Misunderstanding in Cross-Cultural Communication. Vladivostok: FESU Press, 1999. 196 р.
- Storti C. Americans at Work. A Guide to the Can-Do People. Yarmouth: Intercultural Press, 2004. 200 p.