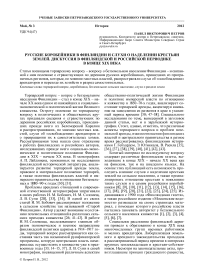Русские коробейники в Финляндии и слухи о наделении крестьян землей. Дискуссия в финляндской и российской периодике в конце XIX века
Автор: Петров Павел Викторович
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: История
Статья в выпуске: 3 (124), 2012 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена торпарскому вопросу - вопросу о безземельном населении Финляндии - и связанной с ним полемике о странствующих по деревням русских коробейниках, пришедших из приграничных регионов, которые, по мнению местных властей, распространяли слухи об «освобождении» арендаторов и переходе их хозяйств в разряд самостоятельных.
Торпарский вопрос, коробейники, безземельное сельское население, слухи о разделе земли
Короткий адрес: https://sciup.org/14750123
IDR: 14750123 | УДК: 94(47)
Текст научной статьи Русские коробейники в Финляндии и слухи о наделении крестьян землей. Дискуссия в финляндской и российской периодике в конце XIX века
Торпарский вопрос – вопрос о безземельном населении Финляндии – стал в конце XIX – начале XX века одним из важнейших в социальноэкономической и политической жизни Великого княжества. Остроту полемике по торпарскому вопросу в политических и общественных кругах придавали сведения о странствующих по деревням российских коробейниках, приходивших прежде всего из Беломорской Карелии и распространявших, по мнению местных властей, слухи об «освобождении» арендаторов и о превращении их в самостоятельных хозяев. Рассматриваемая тема нашла свое отражение в работах финляндских и российских авторов, исследовавших прежде всего социально-экономическое и политическое положение Финляндии в XIX – начале XX века. В монографиях А. П. Лайдинена, основанных на исследовании финляндской исторической литературы, анализируется развитие торпарской аренды земли, правовое и материальное положение торпарей, а также политика финляндских властей и имперского правительства в отношении безземельных в 1880–90-х годах [30], [31].
Проблемы арендных отношений в современной отечественной историографии затрагивали в своих работах И. М. Бобович, И. М. Соломещ, Л. В. Суни [28], [33], [34]. В одной из своих статей И. М. Бобович рассматривает положение в сельском хозяйстве так называемой «Старой Финляндии». Автор уделяет внимание и состоянию поземельных отношений в различных сельских приходах княжества [26; 41–43]. В работе И. М. Соломеща, исследовавшего главным образом экономическое и военное направление финляндской политики царизма в 1914–1917 годы, торпарский вопрос рассматривается как составная часть так называемой русификаторской программы, которую центральная власть намеревалась осуществлять в княжестве уже в предвоенные годы [33; 14–15, 37]. Л. В. Суни в своей монографии, посвященной различным аспектам общественно-политической жизни Финляндии и политике имперской власти по отношению к княжеству в 1850–70-х годах, анализирует состояние торпарской аренды, акцентируя внимание на замедлении ее развития в крае в указанный период времени [30; 47–58]. Специального исследования по теме, вынесенной в заголовок данной статьи, нет и в зарубежной историографии. Стоит, однако, отметить, что различные аспекты торпарского вопроса и проблем поземельной аренды, взаимоотношения финляндских властей и центрального правительства в разное время рассматривались финляндскими историками Г. Гебхардом, Э. Ютиккала, В. Расила [35], [36], [37], [38], [39], [40], [41], [42], [43].
Богатый материал по исследуемому вопросу содержат различные финляндские газеты, выходившие в конце XIX – начале XX века как на финском, так и на шведском языках. На основе этих публикаций есть возможность проследить влияние слухов о наделении крестьян землей на сельское население, а также проанализировать отношение крестьян к появлению таких слухов и к самим российским коробейникам [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [25]. Издававшаяся с 1900 года «Финляндская газета», а также российское издание «Московские ведомости» размещали на своих страницах материал, с помощью которого российские власти пытались завоевать авторитет у безземельного сельского населения княжества [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7].
Социальное расслоение финляндской деревни привело к образованию в конце XIX века многочисленных групп наемных работников и мелких арендаторов. Либерализация земельного и арендного законодательства проходила в рассматриваемый период времени в интересах крупных землевладельцев и крестьян-собственников. Несмотря на законодательные акты, провозглашавшие принцип гражданского равенства, мелкие земельные арендаторы, как и наемные работники, продолжали оставаться в зависимом положении от своих хозяев. Большое число крестьян-землевладельцев, положение которых в законодательном плане значительно улучшилось, позволяло местным финляндским властям и имперскому правительству ограничиваться частичными мерами в урегулировании арендных отношений. В то же время слабость сторонников реформирования законодательства в пользу беднейшего крестьянства отрицательно сказывалась на отношении властей к проблемам безземельного сельского населения.
Перерастание торпарского вопроса в важнейшую социально-экономическую, а к концу XIX века и политическую проблему княжества привлекло к себе внимание российских правящих кругов. В условиях наступления на автономные права Финляндии в 1890-е годы и открытого недовольства этой политикой местных властей и общественности имперское правительство и его сторонники в княжестве стремились использовать обстановку социальной напряженности деревни в своих целях. Именно торпари и иные категории сельского населения, чьи требования об улучшении материального и правового положения к концу XIX века становились все более настойчивыми, должны были стать той социальной базой, на которую центральная власть планировала опереться при проведении нового политического курса в княжестве.
Первые слухи о бесплатном наделении землей, распространяемые коробейниками, относятся еще к 1830–40-м годам [42; 139]. Однако именно на 70–90-е годы XIX века приходится наибольшее количество сообщений о «торговцах-подстрекателях».
По мнению финляндских властей, в подавляющем большинстве случаев именно коробейники (фин. laukkuryssä, laukkuri) являлись распространителями подобных слухов. Коробейники Беломорской Карелии торговали в этих краях еще до присоединения Финляндии к России. Разносная торговля, как и сельская торговля в целом, была незаконной. Но когда сельское население исходя из собственных интересов стало опекать коробейников, нуждавшихся и в еде, и в ночлеге, местные власти поначалу смотрели на эти нарушения закона сквозь пальцы. Поскольку запреты все-таки существовали, коробейники предпочитали появляться в отдаленных деревнях, где распространение слухов среди населения, мало интересовавшегося последними новостями, было очень результативным. Местные чиновники довольно часто проверяли налоговые сведения в деревнях, используя специальные книги. Это, в свою очередь, порождало предположения, что «царской власти» необходимо владеть информацией для проведения раздела земель [15], [18]. (Подробнее о торговле коробейников в Беломорской Карелии и Финляндии см. [26], [27], [29], [32].)
В распространении подобных слухов обвиняли не только коробейников, но и других россиян, работавших в сельских уездах, а также военных.
Так, летом 1884 года в редакцию газеты «Хямяляйнен» пришло письмо, в котором рассказывалось, что русские топографы во время своей работы в нескольких деревнях упоминали о разделе земли. У самостоятельных крестьян и торпарей, до которых подобные слухи доносились и ранее, это вызвало небывалый восторг, так как они верили в то, что посланные центральной властью работники проводят учет земельных угодий для дальнейшего их раздела [8], [9]. Слухи были распространены не только на территории основных «торпарских» районов. Один из авторов выборгской газеты «Выборг-сбладет» поместил на ее страницах рассказ местного торпаря о том, что царь якобы распорядился разделить землю между нуждающимися [25].
Х. Гебхард напрямую связывал отмену крепостного состояния крестьян России в 1861 году с началом изменения положения финляндских торпарей в 1883 году. Он считал, что сложившееся среди мелких арендаторов общее мнение о грядущем земельном переустройстве привело к началу торпарского движения, так как держатели земли на деле не видели воплощения своих желаний о превращении арендуемых участков в самостоятельные хозяйства [38]. То обстоятельство, что государство выкупало в собственность донационные территории в Выборгской губернии, также давало арендаторам повод надеяться на обретение ими статуса крестьян-собственников.
Интересен и тот факт, что слухи о разделе земли были распространены и на других окраинах Российской империи. В Эстонии и губерниях восточного побережья Балтики ходили слухи, по которым землю получат только те семьи, которые обзаведутся мужским потомством. Некоторые священники шли дальше и распространяли в своих приходах информацию о том, что земельные наделы получат только те крестьяне, которые примут православную веру [19], [10].
Появление сведений о коробейниках, распространявших слухи о наделении крестьян землей в начале 90-х годов XIX века, совпало с проведением во многих губерниях княжества торпар-ских выступлений и собраний. В «Московских ведомостях» стали публиковаться письма из Финляндии, содержавшие сведения о бесправном положении безземельного сельского населения и его недовольстве ухудшением условий аренды. Особой критике подвергалась деятельность Сейма – «сборища богатеев от разных сословий, которым были чужды желания простого народа» [1], [2], [3]. На подобные публикации русской газеты, целью которых было показать, какая глубокая пропасть разделяла в княжестве различные слои общества, отреагировала финляндская пресса. «Нюа Прессен», «Ууси Суоме-тар», «Пяйвялехти» и некоторые другие издания, публикуя материал о торпарских «подстрекателях», писали, что главной целью подобных статей являлся обман именно русского населения для того, чтобы оно поверило в желание финнов получить помощь от правящих кругов России [11], [12], [13], [14], [16], [17], [21], [22].
В «Ууси Суометар» были опубликованы выдержки из протокола одного из многочисленных торпарских собраний, где говорилось: «В последнее время стало появляться большое количество подстрекателей, которые пытаются представить положение сельского населения гораздо хуже, чем оно есть на самом деле. Они сравнивают его иногда даже с положением русских крепостных, подчеркивая наше недоверие к законам и показывая нас просящими внешней помощи. Однако мы с пренебрежением относимся к таким домыслам…» [23]. Газета замечала, что такая гвардия коробейников не могла появиться сама по себе и они скорее всего были кем-то организованы [24].
После провозглашения Февральского манифеста 1899 года газеты снова запестрили письмами из деревень о положении сельского населения и слухах о разделе земли между беднейшими слоями крестьянства. И вновь распространителями слухов посчитали именно коробейников. Так как местные власти начали их преследовать, мелким торговцам приходилось покидать привычные места торговли в сельских приходах. Как отмечает В. Расила, с их уходом понемногу затихали и слухи [42; 182].
Инициированное Сенатом Финляндии расследование о распространении слухов не придало вопросу какой-либо ясности. Выводы специальной комиссии гласили, что подобного рода слухи были в ходу уже многие десятилетия и они всегда приписывались русским топографам, солдатам или коробейникам, но никакой агитации названные категории российских граждан никогда не вели. Причиной же распространения слухов, по мнению официальных лиц, стало давнишнее желание сельской бедноты иметь свою землю [42; 184].
С 1898 по 1904 год финляндским генерал-губернатором был Н. И. Бобриков. С его именем связывали реализацию царского курса единения княжества с империей. Одновременно с ограничением сферы влияния Сейма и Сената полномочия генерал-губернатора расширялись. Недовольство беднейших слоев населения своим положением имперские власти пытались использовать против местной политической и финансовой элиты, ставшей в оппозицию новому курсу, проводимому в княжестве российскими правящими кругами.
Свидетельством того, что Николай II встал на защиту бесправного беднейшего населения Финляндии, был воспринят указ о создании в 1898 году специального «Комитета по безземельному населению» и учреждение денежного фонда для оказания помощи безземельным в приобретении участков и жилья через общинные управления или кооперативы. Помощь преследовала, безусловно, единственную цель: в лице новых земельных собственников имперские власти рассчитывали получить социальную опору в условиях своего наступления на автономию Финляндии [42; 216]. Об этом, в частности, сообщали Н. И. Бобрикову губернаторы княжества. Так, глава губернии Хяме писал, что из новых хозяев-собственников, которые в долгу перед Россией, можно получить впоследствии «благодарных подданных». Сам же генерал-губернатор в одном из своих отчетов Николаю II замечал, что облегчение мероприятий по государственному объединению связано с коренным улучшением положения безземельных крестьян, в лице которых русская власть могла бы приобрести «мощную поддержку» [41; 136].
«Финляндская газета», основателем которой стал сам Н. И. Бобриков, помогала русским властям завоевывать авторитет у беднейшего сельского населения княжества. В газете подчеркивалось, что оказание помощи безземельным со стороны российской власти будет непременно продолжаться. Обсуждая вопросы, связанные с ассигнованиями средств на приобретение в собственность земли неоседлому населению и тор-парям, газета указывала, что предпринятыми мерами уже удалось добиться некоторого улучшения положения беднейшего крестьянства [4].
Важное место занимал в данном издании и вопрос, связанный с распространением слухов о переделе земли. Газета подчеркивала, что отношение к коробейникам, как и ко всем русским, занимающимся в Финляндии торговлей и ремеслами, изменилось с весны 1899 года, то есть со времени обнародования Февральского манифеста. По свидетельству газеты, в российских коробейниках, как и в татарах и цыганах, стали усматривать «тайных шпионов и пропагандистов, способных распространять среди местного населения неверные понятия о русском землевладении». Газета встала на защиту коробейников, обвиняемых в разжигании противостояния между безземельными и правящим классом [5], [6], [7].
Для местных властей борьба со слухами являлась одним из способов противостояния набиравшей силу политике «русификации» княжества. В общественных кругах Финляндии, на страницах периодической печати откровенно высказывалось отрицательное отношение к проводимому объединительному курсу. Поскольку вопрос о безземельном сельском населении занимал в конце XIX – начале ХХ века в политике центральной власти важное место, проявление враждебности к российским торговцам было встречено «Финляндской газетой» крайне агрессивно. Обвиняя некоторые местные издания в публикации материалов о наводнении Финляндии русскими шпионами и агитаторами и в призывах к началу борьбы против них, «Финляндская газета» высказывала сожаление в связи с тем, что в некоторых общинах местное население поверило этим изданиям, попав под влияние прессы [7].
Полностью отрицая распространение различных слухов русскими разносными торговцами, «Финляндская газета» в одном из номеров писала: «Обвинения не носили доказательного подтверждения... Если и были единичные случаи (распространения слухов. – П. П.), особого вреда они принести не могли, так как при распространении в здешней окраине периодической печати, которая в глазах населения поль- зуется весьма большим доверием, опровержение таких слухов не могло представлять затруднения» [7].
В условиях обострения российско-финляндских отношений на рубеже XIX–XX веков «Финляндская газета» как издание, учрежденное лично Н. И. Бобриковым, уделяла большое внимание развенчанию неверных домыслов у сельских жителей края по поводу различных слухов, якобы распространяемых русскими. Несмотря на то что к слухам о разделе земли безземельные крестьяне Финляндии иногда относились с недоверием, большинство все же действительно надеялись на приход лучших времен, когда они могли бы стать собственниками наделов. Огромное число безземельных, поддерживавших данное мнение и веривших в заботу о них «русского царя», вполне позволяли организовывать «Финляндской газете» распространение информации подобного рода.
Список литературы Русские коробейники в Финляндии и слухи о наделении крестьян землей. Дискуссия в финляндской и российской периодике в конце XIX века
- Московские ведомости. 1891. 10 февраля.
- Московские ведомости. 1891. 21 февраля.
- Московские ведомости. 1891. 2 июня.
- Финляндская газета. 1900. 22 января.
- Финляндская газета. 1900. 18 февраля.
- Финляндская газета. 1900. 18 апреля.
- Финляндская газета. 1900. 20 апреля.
- Hämäläinen. 1891. 23 heinäkuu.
- Hämäläinen. 1891. 13 elokuu.
- Hämäläinen. 1891. 4 maaliskuu.
- Nya Pressen. 1891. 6 maaliskuu.
- Nya Pressen. 1891. 10 maaliskuu.
- Nya Pressen. 1891. 16 maaliskuu.
- Nya Pressen. 1891. 17 maaliskuu.
- Päivälehti. 1891. 1 helmikuuta.
- Päivälehti. 1891. 7 maaliskuu.
- Päivälehti. 1891. 17 kesäkuu.
- Päivälehti. 1899. 6 huhtikuu.
- Suomalainen. 1891. 26 helmikuu.
- Uusi Suometar. 1891. 23 tammikuu.
- Uusi Suometar. 1891. 8 maaliskuu.
- Uusi Suometar. 1891. 14 maaliskuu.
- Uusi Suometar. 1891. 4 huhtikuu.
- Uusi Suometar. 1899. 30 maaliskuu.
- Wiborgsbladet. 1889. Syyskuu.
- Базегский Д. В. Законодательство России и Финляндии о карельском коробейничестве в XIX -начале XX в.//Вопросы истории Европейского Севера. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1993. С. 43-51.
- Базегский Д. В. Экономические связи Беломорской Карелии и Северной Финляндии (Кайнуу) во второй половине XIX -начале XX в.: Дисс.... канд. ист. наук. Петрозаводск, 1998. 173 с.
- Бобович И. М. Состояние сельского хозяйства «Старой Финляндии» в конце XVIII -начале XX в.//Скандинавский сборник. Тарту, 1977. Вып. 22. С. 31-44.
- Жербин А. С. Карельские коробейники в Финляндии в XIX в.//Тезисы докладов V Всесоюзной конференции по изучению языка, истории и литературы Скандинавских стран и Финляндии. Т. 1. Ч. 1. М., 1971. С. 65-68.
- Лайдинен А. П. Торпарская система аренды земли в Финляндии. XVII -первая половина XIX века. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1987. 104 с.
- Лайдинен А. П. Торпарский вопрос в Финляндии во второй половине XIX в. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 1992. 203 с.
- Нестерова И. С. Приграничная торговля сельского населения Великого княжества Финляндского и Карелии//Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Сер. «Общественные и гуманитарные науки». 2009. № 5. С. 24-29.
- Соломещ И. М. Финляндская политика царизма в годы Первой мировой войны (1914 -февраль 1917 г.). Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1992. 89 с.
- Суни Л. В. Очерк общественно-политического развития Финляндии. 50-70-е гг. XIX в. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1979. 240 с.
- Gebhard H. Agraarikysymyksemme//Valvoja. Helsinki, 1895. S. 398-409.
- Gebhard H. Tutkimuksia ja ehdotuksia torpparikysymyksestä//Valvoja. Helsinki, 1899. S. 241-263.
- Gebhard H. Maakysymys Suomessa//Aika. Helsinki, 1907. S. 567-581.
- Gebhard H. Torpparilaitos Suomessa//Oma maa. IV Osa. Porvoo, 1923. S. 678.
- Jutikkala E. Suomen talonpojan historia. Helsinki, 1958. 480 s.
- Jutikkala E. Torpparikysymys//Suomen talous-ja sosiaalihistorian kehityslinjoja. Porvoo, 1968. S. 189-199.
- Jutikkala E. Maalaisyhteiskunta//Hämeen historia. IV:1. Hämeenlinna, 1969. S. 75-199.
- Rasila V. Suomen torpparikysymys vuoteen 1909. Helsinki, 1961. 493 s.
- Rasila V. Torpparikysymyksen ratkaisuvaihe. Helsinki, 1970. 414 s.