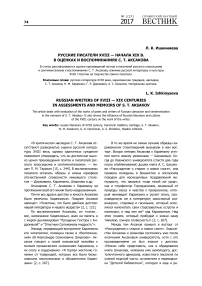Русские писатели XVIII - начала XIX в. в оценках и воспоминаниях С. Т. Аксакова
Автор: Ишкиняева Лилия Камилевна
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Факультету культуры и искусства Ульяновского государственного университета - 20 лет
Статья в выпуске: 1 (27), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются оценки произведений поэтов и писателей русского классицизма и сентиментализма в воспоминаниях С. Т. Аксакова, влияние русской литературы и культуры XVIII столетия на творчество самого писателя.
Русская литература xviii века, карамзинская традиция, наследие, с. т. аксаков, н. м. карамзин, г. р. державин, а. с. шишков, театральная критика
Короткий адрес: https://sciup.org/14114413
IDR: 14114413
Текст научной статьи Русские писатели XVIII - начала XIX в. в оценках и воспоминаниях С. Т. Аксакова
N. M. Karamzin, G. R. Derzhavin, A. S. Shishkov, theater criticism.
«В критическом наследии С. Т. Аксакова отсутствуют развернутые оценки русской литературы XVIII века, однако единичные суждения позволяют утверждать, что он достаточно высоко ценил произведения поэтов и писателей русского классицизма и сентиментализма», — пишет П. М. Таракин [15, с. 244]. В воспоминаниях писателя остались образы и имена корифеев отечественной словесности минувшего столетия — Державина, Карамзина, Шишкова и др.
Отношение С. Т. Аксакова к Карамзину на протяжении всей его жизни было неоднозначным.
Почти все друзья детства и юности Аксакова были увлечены Карамзиным. Позднее Аксаков напишет: «Поистине, это было двойное детство: нашей литературы и нашего возраста» [2, с. 121].
По воспоминаниям Аксакова, он «читал… все, написанное Карамзиным, знал на память и с жаром декламировал “Прощанье Гектора с Андромахой” и “Опытную Соломонову мудрость”».
Эпизод, передающий восприятие Карамзина его читателями, помещен также в «Воспоминаниях об Александре Семеновиче Шишкове». Аксаков говорит о своей юношеской нелюбви к мелким прозаическим сочинениям Карамзина, к их слогу и содержанию: «Я терпел жестокие гонения от товарищей, которые все были безусловными поклонниками и обожателями Карамзина» [2, с. 267].
В то же время не самые лучшие образцы карамзинских стихотворений вызывали в нем восторг. Вскоре интерес Аксакова к Карамзину уступил место новому увлечению — Шишковым. Когда до Казанского университета (спустя два года после опубликования) дошла книга А. С. Шишкова «Рассуждение о старом и новом слоге», она привела молодежь в бешенство и послужила поводом для насмешливых поздравлений мемуаристу, что нашелся «еще такой же урод», как и «профессор Городчанинов, лишенный от природы вкуса и чувства к прекрасному, который ненавидит Карамзина и ругает эпоху, произведенную им в литературе; закоснелый сла-вяноросс, старовер и гасильник, который осмелился напечатать свои старозаветные остроты и насмешки, и над кем же? над Карамзиным. Над этим гением, который пробудил к жизни нашу тяжелую, сонную словесность!» [2, с. 267].
Между тем Аксаков пришел в восторг от «Рассуждения о старом и новом слоге». Знакомство Аксакова и Шишкова состоялось уже после окончания Аксаковым университета, хотя с его произведениями он был знаком с детства: «Можно себе представить, как я обрадовался книге Шишкова, человека уже немолодого, достопочтенного адмирала, известного писателя по ученой морской части, сочинителя и переводчика “Детской библиотеки”, которую я еще в ре- бячестве вытвердил наизусть! Разумеется, я признал его неопровержимым авторитетом, мудрейшим и ученейшим из людей! Я уверовал в каждое слово его книги, как в святыню!.. Русское мое направление и враждебность ко всему иностранному укрепились сознательно, и темное чувство национальности выросло до исключительности» [2, с. 268].
И позже, познакомившись со своим кумиром, Аксаков благоговел перед Шишковым [2, с. 271], но постепенно переходил из безмолвного слушателя в собеседника, иногда возражая ему.
Но и на склоне лет Аксаков с благоговением относился к А. С. Шишкову: «История будет беспристрастнее, справедливее нас. Имя Шишкова как литератора, как общественного и нравственного писателя, как государственного человека, как двигателя своей эпохи — займет почетное место на ее страницах, и потомство с большим сочувствием, чем мы, станет повторять стихи Пушкина [2, с. 313]:
Сей старец дорог нам: он блещет средь народа Священной памятью двенадцатого года».
На протяжении всей жизни Карамзин и Шишков были для Аксакова противоположными полюсами, но в конечном счете он нашел некий компромисс: не отвергая ни того, ни другого, ценя их обоих, он признал их огромное значение для развития русской словесности. Он смог встать выше борьбы шишковистов и карамзинистов и сделать вывод, что они два равновеликих деятеля одной эпохи.
Вобравшее все богатство русской речи, слово Аксакова — это как бы сама жизнь, и не в книжном обличье, а в ее живой непосредственности, без всякого налета литературности. И все же перед нами — литературные произведения, авторские творения.
Здесь вспоминаются известные слова Карамзина: «Ты берешься за перо и хочешь быть автором — спроси же у самого себя, наедине, без свидетелей, искренно: каков я? Ибо ты хочешь писать портрет души и сердца своего» [6, с. 61]. Лиризм аксаковской прозы, его слово, «влажное от слез» [13, с. 189], было самобытным продолжением карамзинской традиции. У Аксакова слезы перестали быть сентиментали-стским штампом и признаком чрезмерной чувствительности: они превратились в универсальную форму глубокого психологического переживания. В преображенном виде эта форма, связываемая с именем Карамзина, нашла свое продолжение и у других русских писателей.
В произведениях С. Т. Аксакова («Воспоминания», «Семейная хроника», «Детские годы
Багрова-внука») слезы становятся способом раскрытия внутреннего мира героев. «Это слезы горя и радости, вины и страха, обиды и прощения, благодарности и упрека, встречи и расставания, слезы жалости, моления, раскаяния, умиления» [9, с. 25] и т. д. Слезы героев естественны, они не вызывают иронии. В контексте многообразных ситуаций слезы передают силу впечатлений, глубину душевных переживаний. С помощью двух, трех слов — «радостные слезы», «плакали навзрыд», «рыдали и плакали» — Аксаков показывает со всей полнотой внутреннее состояние героя, и эта краткость, сдержанность придают чувствам выразительность и убедительность. Хотя встречается у писателя и некое преувеличение («ручьи задержанных слез хлынули из моих глаз» [2, с. 20], «плакала горючими слезами» [1, с. 166], «обливаясь жаркими слезами» [1, с. 176]), но его цель — не растрогать читателя, а показать весь драматизм происходящего.
У Аксакова «каждая слеза имеет причину, иногда сложную. Каждая слеза — событийна» [13, с. 189]. Перед нами благодатное продолжение, развитие тех форм психологизма, которые были утверждены в русской литературе Карамзиным, так же как и типология «двух характеров», представленная в очерке «Чувствительный и холодный» (контрастная пара).
Жилякова Э. М. усматривает этот принцип даже в «Семейной хронике» С. Т. Аксакова, имея в виду образы Алексея Степановича и Софьи Николаевны: «При описании натуры Алексея Степановича доминируют определения: “тихий”, “скромный”, “застенчивый”, “ко всем ласковый”, “цвел, как маков цвет”, “стыдливый, как деревенская девушка”, <…> “застенчив, радостен и светел”. При характеристике Софьи Николаевны преобладают указания на ее ум и сильный характер: “преумная”, “прегордая”, “ученая, избалованная”, “чудо красоты и ума”, “начитанна, остроумна, ловка, тверда, блистательна, властолюбива”» [5, с. 168]. Автор статьи говорит о том, что в главах «Семейной хроники» («Женитьба молодого Багрова» и «Молодые в Багрове») «происходит развитие конфликта, построенного на антитезе двух типов характера: чувствительного и холодного» и что «эта коллизия уходит к Карамзину» [5, с. 168]. Нельзя, однако, согласиться, что «за этой антитезой стоит целая система таких понятий, как добро и зло, любовь и эгоизм, великодушие и расчет». «Суть карамзинской коллизии именно в том, — отмечает Л. А. Сапченко, — что столь разные “два характера” для автора равноправны и равно- ценны, они взаимно дополняют друг друга, у каждого из них своя правота, и именно это, на наш взгляд, наследует у Карамзина С. Т. Аксаков, способный встать также на точку зрения Софьи Николаевны, в которой, конечно же, нет ни зла, ни эгоизма, ни расчета и “вина” которой лишь в том, что она не испытала страстной любви к мужу, излив впоследствии весь жар женской любящей души на детей и проявляя здесь свойства “чувствительной”, страстной натуры» [14, с. 241].
Представляет интерес проявление карамзинской традиции в наследии Аксакова как театрального рецензента и музыкального критика. В своих оценках оперных певцов и драматических артистов Аксаков, вслед за Карамзиным, стоявшим у истоков театральной критики, «требовал от исполнителя сáмого для него любезного — души», — пишет О. П. Маркова [11, с. 44]. Взгляды Карамзина на музыку и театр, отчетливо проявившиеся в «Письмах русского путешественника», характер их воздействия на душу, на чувства слушателя или зрителя, «одушевленность» исполнения или игры были главным критерием и для Аксакова.
Хорошо известны исследователям воспоминания Аксакова «Знакомство с Державиным». Как утверждает Э. Л. Войтоловская, Аксаков, вспоминая «с растроганным сердцем» свое кратковременное знакомство с Державиным, признавался, что единственно своему чтению обязан он тем «светлым минутам молодости», когда был совершенно поглощен неожиданным знакомством с Державиным, гордостью и славой отечественной словесности.
Державин Г. Р. родился в Казани, да и всю последующую жизнь был связан со своей родиной. При встрече с С. Т. Аксаковым он подробно расспрашивал его «об Оренбургском крае, о тамошней природе, о Казани, о гимназии, университете…» [2, с. 318—319].
По словам Э. Л. Войтоловской, в своих воспоминаниях «Аксаков передает тончайшие оттенки душевных движений поэта. Он создает не парадный портрет, ему дорог реальный человек, которому свойственны все порывы человеческой души, человек, который может быть добрым и великодушным, нетерпеливым и вспыльчивым. Аксаков любит его таким, каков он есть, и заставляет других понять и принять его» [3, с. 64].
Аксаков высоко ценил стихи Державина: «Я был самым горячим, самым страстным поклонником Державина и знал наизусть все его лучшие стихи» [2, с. 315], особенно оды «Водопад» и
«На смерть князя Мещерского». Такое восторженное отношение к Державину было характерно тогда для молодежи: «Это чудесное стихотворение, дико составленное, но богатое первоклассными красотами: выражение этих красот было им тогда прочувствовано вполне» [2, с. 321]. Однако вместе с тем он явно видел не только сильные, но и слабые стороны «Водопада».
Суждения Аксакова о личности и творчестве Державина «во многом совпадали с мнением Пушкина и Белинского, отмечавших неровность живописи Державина, отсутствие художественности в отделке» [15, с. 247]. «Белинский высоко ценит в стихотворении Державина отражение живой, вечно меняющейся жизни, но отмечает сухость и сдержанность в выражении чувств, характерные для классицизма, — пишет Э. Л. Войтоловская. — Ту же оценку встречаем мы и у Аксакова» [3, с. 71]. «Нетерпеливость, как мне кажется, — писал он о Державине, — была главным свойством его нрава; и я думаю, что она много наделала ему неприятных хлопот в житейском быту и даже мешала вырабатывать гладкость и правильность в стихах. Как скоро его оставляло вдохновение — он приходил в нетерпение и управлялся уже с языком без всякого уважения: гнул на колено синтаксис, словоуда-рение и самое словоупотребление» [2, с. 331].
Строгой критической оценке были подвержены драматические опыты Державина, как отмечает П. М. Таракин. Аксаков говорил, что как одописец Державин восхитителен, но как драматический поэт он не удался. «Дарования драматического Державин решительно не имел; у него не было разговора — все была песнь; но, увы, он думал, что его имеет» [2, с. 324].
Достаточно сухо отзывался критик и о «эротической поэзии» Г. Р. Державина. «Державин любил также так называемую тогда “эротическую поэзию”. Он написал в этом роде много стихотворений; все они лишенные прежнего огня, замененного иногда нескромностью картин, производили неприятное впечатление» [2, с. 326].
Стихотворные просчеты Державина Аксаков объяснял особенностями его характера, нетерпеливостью. Не имевшие успеха у современных ему читателей трагедии Державина вместе с тем сыграли весьма важную роль в развитии отечественной драматургии. Они «представляют несомненный интерес как этап в творческой биографии поэта и как знаменательное явление в истории русской драматургии начала XIX века» [10, с. 204].
Высоко ценил Аксаков само знакомство с этим великим человеком и благодарил бога, что он послал ему «такое неожиданное счастье — приблизиться к великому поэту, узнать его так коротко и получить право любить его как знакомого человека!» [2, с. 335].
Исследователи единодушны в том, что в воспоминаниях С. Т. Аксакова под названием «Знакомство с Державиным» запечатлен живой облик знаменитого русского поэта, воссоздана картина литературной жизни начала XIX столетия, передано увлечение Аксакова стихами Державина, их взаимное упоение декламацией. «В своих воспоминаниях, — пишет Э. Л. Войто-ловская, — писатель стремился передать живую теплоту этого “очень кратковременного, но полного, искреннего, свободного кабинетного знакомства”» [3, с. 60].
Однако современный С. Т. Аксакову критик утверждал, что «при всей живости и одушевленности» воспоминаний из них невозможно вынести ни одной «важной мысли о Державине», «ни одной замечательной характеристической черты, кроме представления о живой нетерпеливости этого знаменитого писателя и его грубом непонимании собственного таланта» [12, с. 48]. Рецензент, видимо, не принял явного расхождения аксаковского Державина с его хрестоматийным образом. Однако здесь (как и во всех других произведениях) именно в передаче достоверных впечатлений видел С. Т. Аксаков свою художественную задачу.
Кроме того, достоверные впечатления соединены были с искренним восторгом, который испытывал молодой чтец перед Державиным: «Скромный путь моей жизни озарился последними лучами заходящего светила, последними днями великого поэта!.. воспоминанье об этих светлых минутах моей молодости постоянно разливает какое-то отрадное, успокоительное чувство на все духовное существо мое…» [2, с. 335]. В этих прозаических строках можно услышать отзвуки державинских стихов: «Смерть мужа праведна прекрасна! / Как умолкающий орган, / Как луч последний солнца ясна / Сверкает, тонет в океан…» [4, с. 140—141] и т. д.
Но встает вопрос: имело ли место влияние державинской поэзии на аксаковские произведения? Проявились ли в них державинские традиции? Думается, да. Они в мастерстве и конкретности изображения природы, в идиллическом компоненте творений двух авторов, кроме того, иногда Аксаков может прямо говорить стихами Державина, находя в них эстетически безупречную выразительность и изобразительность.
Выше уже было отмечено присутствие в произведениях Аксакова лирических, ритмиче- ски организованных фрагментов прозы. Подобные опыты были и у Державина. Как отмечает Алла Койтен, Державин сделал четыре прозаических перевода стихотворений Фридриха Великого (помещены в 1 томе собрания сочинений Державина, подготовленного Я. К. Гротом) и несколько идиллий в прозе Геснера, оставшихся неопубликованными: «Миртил», «Зефиры», «Плаванье», «Дафна и Хлоя», «Пучок цветов», причем переводчик верно передает, используя ямбы, ритмизованные фрагменты исходного текста. «В целом, в переводе Державина ритмизацию текста можно встретить чаще, чем в немецком оригинале Геснера» [7, с. 131].
Силлабо-тоническая метризация граничащих со стихом фрагментов прозы происходит довольно часто и при цитировании чужого текста.
Это имеет место в воспоминаниях о Державине.
Перед появлением строк из державинского стихотворения «Арфа» появляются колоны:
«…как он впоследствии, смеясь, мне признавался» (–/ –/ – – –/ – – – / –) — шестистопный ямб с пиррихиями на 3 и 5 стопе и женским окончанием;
«…довольно длинный разговор» (–/ –/ – – –/) — четырехстопный ямб с пиррихием на 3 стопе и мужским окончанием;
Об Оренбургском крае (– – –/ –/ –) — трехстопный ямб с пиррихием на 1 стопе и женским окончанием;
о тамошней природе, о Казани (–/– – –/– – –/–) — пятистопный ямб с пиррихием на 2 и 4 стопе и женским окончанием.
Особенно в случае цитирования державинского «Князя Мещерского»:
Глагол времен, металла звон,
Твой страшный глас меня смущает,
Зовет меня, зовет твой стон,
Зовет — и к гробу приближает — находим в прозаическом тексте многочисленные метрические структуры:
«…что так не будет слышно» (– /– /– /–) — трехстопный ямб с женским окончанием.
«…что он услышит все» (–/–/ –/) — трехстопный ямб с мужским окончанием.
«Державин превратился в слух» (–/ – – –/ –/) — четырехстопный ямб с пиррихием на второй стопе и мужским окончанием.
«Державин содрогнулся» (–/ – – –/–) — трехстопный ямб с пиррихием на второй стопе и женским окончанием.
Едва я произнес (–/ – – –/)
последние стихи (–/– – –/) — трехстопные ямбы с пиррихием на второй стопе и мужским окончанием.
«Он молча сел опять» (–/ –/ –/) — трехстопный ямб с мужским окончанием.
«И вдруг прибавил громко» (–/ –/ –/ –) — трехстопный ямб с женским окончанием.
Метризованная проза появляется в русской литературе в произведениях М. Н. Муравьева, Н. М. Карамзина и связана с сентиментальноромантической традицией конца XVIII века [8, с. 31—44]. Неслучайно появляется она в аксаковских воспоминаниях о Державине.
В своем знаменитом стихотворении «Евгению. Жизнь Званская» Державин воспевает общую гармонию мироздания, находя в красоте природы доказательство премудрости всех божественных установлений. В то же время поэт рисует зримые, конкретные, или достоверные (как сказал бы Аксаков) картины природы. Эта детальная достоверность в передаче природных явлений, в обрисовке общей картины мира (главный эстетический принцип самого Аксакова) и привлекла особенное внимание автора «Записок ружейного охотника Оренбургской губернии».
В «Записках…» пять случаев включения стихотворного текста в прозаический. Первый случай — автоцитата из стихотворения «Послание к брату (Об охоте)»: «Пруды, озера уток полны: / Одев живой их пеленой, / Они вздымаются, как волны, / Под ними скрытою волной». Вторые два — строки из русских народных песен, далее идет цитата из Державина (причем автор и название стихотворения — «Евгению. Жизнь Званская» — указаны только в этом, единственном, случае) и напоследок — из Карамзина. Сам отбор, несомненно, показателен. Что же выбрал Аксаков из Державина? Казалось бы, всего лишь строчку о тетеревах: «Вероятно, многим удавалось слышать, не говоря об охотниках, “вдали тетеревов глухое токованье”, и, верно, всякий испытывал какое-то неопределенное, приятное чувство. В самих звуках нет ничего привлекательного для уха, но в них бессознательно чувствуешь и понимаешь общую гармонию жизни в целой природе» [4, с. 396—397].
Общая гармония жизни — это и есть тема державинского стихотворения «Евгению. Жизнь Званская», откуда приведена цитата.
В «Литературных и театральных воспоминаниях» Аксакова отражены также его оценки русских литераторов начала XIX века.
Как отмечает П. М. Таракин, каждый писатель и драматург по-своему значим для критика. «Он был убежден в том, что для литературного процесса важна роль всех его участников» [15, с. 249].
Аксаков говорит о писателях второстепенных, которые начинали приходить в забвение, потому что они имели достоинства, относительные к своему времени. Но именно писатели второстепенные приготовляют поприще для писателей первоклассных. «Всякий кладет свой камень при построении здания народной литературы; велики или малы эти камни, скрываются ли внутри стен, погребены ли в подземных сводах, красуются ли на гордом куполе, — все равно, труды всех почтенны и достойны благодарных воспоминаний» [3, с. 7].
Самобытное творчество С. Т. Аксакова во многом формировалось под воздействием литературы предшествующей эпохи, через его отношение к корифеям минувшего века. Хотя произведения Аксакова рассматриваются обычно в контексте литературы середины XIX века, его нравственно-эстетические представления складывались в основном под влиянием русской литературы и культуры XVIII столетия. Его обращение (в переводных и оригинальных произведениях) к жанрам сатиры, идиллии, послания, его автобиографическая проза, стиль повествования и описания, структура образа, сочетание прозаической и стихотворной форм речи прямо указывают на связь писателя с классицистической и сентименталистской традицией.
-
1. Аксаков С. Т. Собр. соч. : в 4 т. Т. 1. М. : ГХИЛ, 1956.
-
2. Аксаков С. Т. Собр. соч. : в 4 т. Т. 2. М. : ГХИЛ, 1956.
-
3. Войтоловская Э. Л. С. Т. Аксаков в кругу писателей-классиков : Документальные очерки. Л. : Дет. лит., 1982. С. 64.
-
4. Державин Г. Р. Сочинения Г. Р. Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота. Т. II. С. 140—141.
-
5. Жилякова Э. М. Проблема сентиментальных традиций в эстетике Тургенева 1850-х годов («Дворянское гнездо») // Проблемы метода и жанра. Вып. 18. Томск : Изд-во Томского ун-та, 1994. С. 168.
-
6. Карамзин Н. М. Соч. : в 2. Т. 2. Л. : Худож. лит., 1984. С. 61.
-
7. Койтен А. Державинские переводы из Геснера и Гердера // Новое литературное обозрение. 2002. № 54. С. 131.
-
8. Кормилов С. И. Русская метризованная проза (прозостих) конца XVIII — XIX века // Русская литература. 1990. № 4. С. 31—44.
-
9. Котряхова С. Н. М. Карамзин и С. Т. Аксаков // Традиция в истории культуры : материалы III науч. конф., посвященной 210-летию со дня рождения С. Т. Аксакова. Ульяновск : УлГУ, 2001. С. 25.
-
10. Кочеткова Н. Д. Трагедия и сентиментальная драма начала XIX века // История русской драматургии. XVII — первая половина XIX века. Л. : Наука, 1982. С. 204.
-
11. Маркова О. П. Театрально-музыкальная критика С. Т. Аксакова // Вторые Аксаковские чтения : сб. материалов Всерос. науч. конф. (21—24 сент. 2006 г.). Ульяновск : УлГУ, 2006. С. 44.
-
12. Н. Г-в. Семейная хроника и воспоминания, сочинение С. Аксакова // Русская беседа. 1856. 1. Критика. С. 48.
-
13. Пырков В. Слово, влажное от слез // Волга. 1991. № 9. С. 189.
-
14. Сапченко Л. А. Н. М. Карамзин: судьба наследия (Век XIX). М. : МПГУ — Ульяновск : УлГУ, 2003. С. 241.
-
15. Таракин М. П. С. Т. Аксаков о литературе русского классицизма и сентиментализма // Проблемы изучения русской литературы XVIII века. Вып. 12. СПб. — Самара : Изд-во «НТЦ», 2006.
Список литературы Русские писатели XVIII - начала XIX в. в оценках и воспоминаниях С. Т. Аксакова
- Аксаков С.Т.Собр. соч.: в 4 т. Т. 1. М.: ГХИЛ, 1956.
- Аксаков С. Т. Собр. соч.: в 4 т. Т. 2. М.: ГХИЛ, 1956.
- Войтоловская Э. Л. С. Т. Аксаков в кругу писате-лей-классиков: Документальные очерки. Л.: Дет. лит., 1982. С. 64.
- Державин Г. Р. Сочинения Г. Р. Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота. Т. II. С. 140-141.
- Жилякова Э. М. Проблема сентиментальных традиций в эстетике Тургенева 1850-х годов («Дворянское гнездо»)//Проблемы метода и жанра. Вып. 18. Томск: Изд-во Томского ун-та, 1994. С. 168.
- Карамзин Н. М. Соч.: в 2. Т. 2. Л.: Худож. лит., 1984. С. 61.
- Койтен А. Державинские переводы из Геснера и Гердера//Новое литературное обозрение. 2002. № 54. С. 131.
- Кормилов С. И. Русская метризованная проза (прозостих) конца XVIII -XIX века//Русская литература. 1990. № 4. С. 31-44.
- Котряхова С. Н. М. Карамзин и С. Т. Аксаков//Традиция в истории культуры: материалы III науч. конф., посвященной 210-летию со дня рождения С. Т. Аксакова. Ульяновск: УлГУ, 2001. С. 25.
- Кочеткова Н. Д. Трагедия и сентиментальная драма начала XIX века//История русской драматургии. XVII -первая половина XIX века. Л.: Наука, 1982. С. 204.
- Маркова О. П. Театрально-музыкальная критика С. Т. Аксакова//Вторые Аксаковские чтения: сб. материалов Всерос. науч. конф. (21-24 сент. 2006 г.). Ульяновск: УлГУ, 2006. С. 44.
- Н.Г-в. Семейная хроника и воспоминания, сочинение С. Аксакова//Русская беседа. 1856. 1. Критика. С. 48.
- Пырков В. Слово, влажное от слез//Волга. 1991. № 9. С. 189.
- Сапченко Л. А. Н. М. Карамзин: судьба наследия (Век XIX). М.: МПГУ -Ульяновск: УлГУ, 2003. С. 241.
- Таракин М. П. С. Т. Аксаков о литературе русского классицизма и сентиментализма//Проблемы изучения русской литературы XVIII века. Вып. 12. СПб. -Самара: Изд-во «НТЦ», 2006.