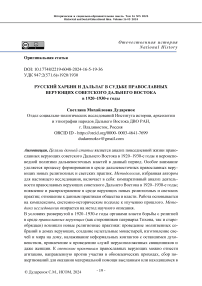Русский Харбин и Дальлаг в судьбе православных верующих советского Дальнего Востока в 1920-1930-е годы
Автор: Дударенок С.М.
Журнал: Историческая и социально-образовательная мысль @hist-edu
Рубрика: Отечественная история
Статья в выпуске: 5 т.16, 2024 года.
Бесплатный доступ
Целями данной статьи является анализ повседневной жизни православных верующих советского Дальнего Востока в 1920-1930-е годы и вероисповедной политики дальневосточных властей в данный период. Особое внимание уделяется процессу формирования в среде дальневосточных православных верующих новых религиозных и светских практик. Методология , избранная автором для настоящего исследования, включает в себя: компаративный анализ деятельности православных верующих советского Дальнего Востока в 1920-1930-е годы; появление и распространение в среде верующих новых религиозных и светских практик; отношение к данным практикам общества и власти. Работа основывается на комплексном, системно-историческом подходе к изучению прошлого. Методика исследования опирается на метод научного описания. © Дударенок С.М., ИСОМ, 2024 В условиях развернутой в 1920-1930-е годы органами власти борьбы с религией в среде православных верующих (как сторонников патриарха Тихона, так и старообрядцев) возникли новые религиозные практики: проведение молитвенных собраний в домах верующих, создание нелегальные монастырей, изготовление свечей и мира на дому, налаживание неформальных контактов с оставшимся духовенством, привлечение к проведению служб нерукоположенных священников и даже женщин. К светским практикам православных верующих можно отнести агитацию, направленную против участия в обновленческих приходах, сбор пожертвований для оказания материальной помощи высланным или находящимся в заключении священнослужителям, беседы на религиозные темы в магазинах, учреждениях и пр., беседы с соседями о Новой Конституции, подготовка различных обращений в советские органы с требованием прекратить антирелигиозную кампанию, проводимую советской властью. В статье делается вывод, что на повседневную жизнь дальневосточных верующих значительное влияние оказали их контакты с верующими, проживающими в полосе отчуждения КВЖД и Русском Харбине, а также верующими - заключенными дальневосточных лагерей, сыгравшими значительную роль в сохранении прежних религиозных традиций и формировании новых.
Религия, церковь, верующие, повседневная жизнь, религиозные практики, молитвенные собрания, русский харбин, дальлаг, вероисповедная политика
Короткий адрес: https://sciup.org/149147276
IDR: 149147276 | УДК: 947:2(571.6)»1920/1930 | DOI: 10.17748/2219-6048-2024-16-5-19-36
Текст научной статьи Русский Харбин и Дальлаг в судьбе православных верующих советского Дальнего Востока в 1920-1930-е годы
Повседневная жизнь верующих в советский период истории является одной из актуальных проблем отечественного исторического религиоведения. На повседневные светские и религиозные практики, а также разделяемые ценности православных верующих советского Дальнего Востока в 1920–1930-е годы значительное влияние оказывали два фактора: Русский Харбин, который после окончания Гражданской войны и массовой эмиграции в Маньчжурию русских беженцев становится центом восточной ветви русской эмиграции, и наличие на территории региона Дальлага.
Повседневной жизни «харбинцев», в том числе и религиозной, посвящено значительное количество литературы [1; 2; 3; 5; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 21; 22; 24 и др.], однако влияние Харбина на повседневную жизнь дальневосточников, особенно после 1922 г., осталось вне поля зрения исследователей.
Целями данной статьи является анализ повседневной жизни православных верующих советского Дальнего Востока в 1920–1930-е годы и вероисповедной политики дальневосточных властей в данный период. Основным источником послужили материалы Фонда 1588 Государственного архива Приморского края (ГАПК), вводимые автором в научный оборот впервые. Методология , избранная автором для настоящего исследования, включает в себя: компаративный анализ деятельности православных верующих советского Дальнего Востока в 1920– 1930-е годы; появление и распространение в среде верующих новых религиозных и светских практик; отношение к данным практикам общества и власти. Работа основывается на комплексном, системно-историческом подходе к изучению прошлого. Методика исследования опирается на метод научного описания.
Результаты и обсуждение
До революции главной особенностью Харбина была его либеральная религиозная политика. С.Ю. Витте предложил расселить вдоль КВЖД религиозные меньшинства, приглядывать за ними, но без особого усердия [4, с. 511]. Такая политика побуждала тех, кто опасался преследования, переезжать в Харбин, и в результате он стал и многонациональным и поликонфессиональным городом [см. подробнее: 14; 22].
Свержение 26 октября (8 ноября) 1917 г. Временного правительства привело к установлению новой власти в стране. Связь с правлением Общества КВЖД в Петрограде была практически полностью прервана. Гражданская война в России привела к потере контроля над территорией полосы отчуждения. 16 марта 1920 г. китайские войска во главе с майором Ло Бинем заняли здание штаба охранной стражи железной дороги, а 23 сентября 1920 г. президент Китайской Республики Сюй Шичан издал Декрет о прекращении официальных сношений с российскими дипломатическими представительствами в Китае. В ответ на это советское правительство заявило об отказе от права экстерриториальности. Полоса отчуждения КВЖД была переименована в Особый район Восточных провинций (ОРВП) [15, с. 698]. Бывшее российское население оказалось в эмиграции.
После 1922 г. на территорию ОРВП прибывали крупные группы русских эмигрантов, среди которых были верующие различных религий и священнослужители. Религиозные конфессии в начале 1920-х годов старались поддерживать связь с церковно-административными структурами, находящимися на советском Дальнем Востоке. Основной целью их деятельности являлось сохранение этнокультурной идентичности диаспор [3, с. 29]. Ведущую роль в этой работе занимала Русская православная церковь.
Какую роль сыграли связи дальневосточных верующих с «харбинцами» в судьбе православных общин (как сторонников патриарха Тихона, так и старообрядцев), можно судить по материалам следственного дела № 14040-1937 контрреволюционной монархической организации церковников тихоновской ориентации г. Владивостока по обвинению Топоркова В.А., Лебедева П.Л. и других по ст. 58-10, 58-11 УК РСФСР [ГАПК. Ф.1588. Оп.2. Д.30850. Т.1-2]. К уголовной ответственности были привлечены 17 человек (Топорков Василий Львович, Лебедев Петр Лаврентьевич, Рябенький Василий Ефстафьевич, Плаксин Николай Гаврилович, Винокуров Константин Александрович, Мешкова Мария Семеновна, Закржевский Бронислав Иосифович, Закржевская Евдокия Федоровна, Гращенко Анисия Евтифьевна, Ковалева Мария Ульяновна, Пехова Анна Семеновна, Кузнецов Алексей Васильевич, Кравец Пелагея Петровна, Саломатова Агафья Яковлевна, Рябинина Федора Ивановна, Кравец Иван Максимович, Мичурова Фекла Матвеевна [ГАПК. Ф.1588. Оп.2. Д.30850. Т.1. Л.1]), в основном священники Русской православной церкви. Из них 12 были приговорены к высшей мере наказания – расстрелу; остальные 5 – к заключению в концлагерь сроком на 10 лет.
Как следует из материалов дела, ссылки и заключение в исправительные учреждения священников – сторонников патриарха Тихона (в миру Василий Иванович Беллавин) с территории Дальневосточной области (с 1926 г. – Дальневосточный край (ДВК) с центром в г. Хабаровске), а следом и закрытие православных приходов за «связь с заграницей» (ушедшими вместе с Белой армией в Маньчжурию православными священниками) и «сотрудничество с небольшевистскими правительствами» на территории региона начались уже в 1923 г. Дальневосточные священнослужители были не только хорошо знакомы друг с другом и с ушедшими в эмиграцию священнослужителями, но и имели близких родственников среди «харбинцев» [ГАПК. Ф.1588. Оп.2. Д.30850. Л.73, 73-76, 98(об.), 109(об.), Л.120, 191-192(об.)]. Это становилось причиной высылки священнослужителей с территории региона и привлечения их к уголовной ответственности (некоторых священников привлекали к уголовной ответственности за период с 1923 по 1927 г. несколько раз).
Связям дальневосточных и харбинских верующих во многом способствовала прозрачность границ между государствами, существующая до 1927 г. Ситуация стала резко меняться в 1928 г. Политическая ситуация в Китае была крайне нестабильной, что привело к гражданской войне и столкновению правительства Китайской республики и китайских коммунистов. В декабре 1928 г. было подписано соглашение между Нанкинским правительством и маршалом Чжан Сюэ-ля-ном, одним из ведущих политических деятелей Гоминьдана. Маршал был назначен главнокомандующим войсками Северо-Восточного Китая. В стране начинает устанавливаться гоминдановский режим во главе с Чан Кайши. В декабре того же года Чан Кайши, выступавший за единоличное управление КВЖД Китаем, объявил советско-китайский договор неравноправным [7, с. 74-75].
В этой ситуации Советский Союз начинает процесс укрепления границ. К началу 1930-х годов связь между советскими общинами и церквями в ОРВП была практически полностью прервана, что значительно облегчило властям разгром дальневосточных православных приходов.
Значительную роль харбинских единоверцев в сохранении и развитии дальневосточного православия признавали и органы власти. Так, например, в справке от 26 мая 1937 г. начальника 4 отдела УГБ УНКВД по ДВК капитана государственной безопасности Сидорова отмечается: «При обысках на квартирах арестованных обнаружена антисоветская литература харбинского издания, пропагандирующая японофильские настроения. … Церковники и сектанты поддерживают организационные связи с зарубежными контрреволюционными белоэмигрантскими организациями, под влиянием которых и иностранных разведок проводят на территории ДВК антисоветскую деятельность и распространяют японофильские настроения…» [Государственный архив Хабаровского края (ГАХК). Ф.Р-137. Оп.10. Д.253. Л.104-107].
В вину дальневосточным священникам вменялось: «хранение на дому церковной утвари и религиозных книг» после закрытия приходов [ГАПК. Ф.1588. Оп.2. Д.30850. Л.60-61]; хранение писем от родственников и знакомых из Харбина [ГАПК. Ф.1588. Оп.2. Д.30850. Л.105(об), 123-124]; хранение «монархической контрреволюционной брошюры профессора П.В. Верховского "Вожди и герои России. Патриарх Тихон"» [ГАПК. Ф.1588. Оп.2. Д.30850. Л.68]; личное знакомство с организатором Камчатского братства, епископом Камчатским Нестором (в миру Николай Александрович Анисимов) и укрывательство от советской власти оставленной епископом Нестором «ценной золотой и серебряной церковной утвари» [ГАПК. Ф.1588. Оп.2. Д.30850. Л.123-1].
Привлечение к уголовной ответственности и высылка священников с территории региона стали прекрасным поводом для местных властей официально закрыть все существующие на территории ДВК православные приходы сторонников патриарха Тихона (Белавина). В 1930 г. на территории ДВК официально действовал только один приход в г. Благовещенске, окормляемый пожилым слепым протоиереем [ГАПК. Ф.1588. Оп.2. Д.30850. Л.86]. В результате православные верующие ДВК начинают активно принимать идеологию обновленчества.
Дальневосточных священников в 1927–1929 гг. чаще всего ссылали в Уральскую область (г. Ирбит, г. Шадринск и др.) [ГАПК. Ф.1588. Оп.2. Д.30850. Л.74], где некоторые из них познакомились с будущим архиепископом Новосибирским Сергием1 (в миру Николай Нилович Васильков). Данное зна-
1 Архиепископ Новосибирский Сергий (в миру Николай Нилович Васильков) родился в с. Подоклинье Порховского уезда Псковской губернии 22 ноября (4 декабря) 1861 г. В 1886 г. со степенью кандидата богословия окончил Санкт-Петербургскую духовную комство стало для многих фигурантов следственного дела № 14040-1937 трагичным. По мнению следствия, контрреволюционная монархическая организация церковников тихоновской ориенации в г. Владивостоке была создана приморскими священнослужителями (Топорковым, Лебедевым, Рябеньким, Плаксиным и др.) по «заданию по развертыванию антисоветский деятельности» митрополита Московского Сергия (Страгородского) и указанию архиепископа Новосибирского Сергия (Василькова) [ГАПК. Ф.1588. Оп.2. Д.30850. Л.74, 75, 81, 85, 95,102(об.), 107, 118(об.)].
Вернувшиеся в 1931 г. из ссылки дальневосточные священники обнаружили полное отсутствие организованной православной религиозной жизни. Начиная с этого времени формируются новые религиозные и светские практики.
К новым религиозным практикам можно отнести: проведение молитвенных собраний в домах верующих, создание нелегальных монастырей, изготовление свечей и мира на дому [ГАПК. Ф.1588. Оп.2. Д.30850. Л.122(об.), 201(об.)], налаживание контактов с оставшимся сельским духовенством и др.
В ходе борьбы с обновленцами и властями за сохранение патриаршей традиции дальневосточные православные верующие стали проводить молитвенные собрания на частных квартирах. Например, владивостокские православные верующие в начале 1930-х годов проводили молитвенные собрания на квартирах П.П. Кравец [ГАПК. Ф.1588. Оп.2. Д.30850. Л.14], М.У. Ковалевой [ГАПК. Ф.1588. Оп.2. Д.30850. Л.201(об.)], священника В.Л. Топоркова, который академию. По окончании два года был учителем церковно-приходской школы Михайлова Погоста Псковской епархии. 6 (18) ноября 1888 г. рукоположен в сан иерея, назначен помощником смотрителя Рижского духовного училища. С 1891 г. стал преподавателем в Уфимском духовном училище, с 3 (16) октября 1906 г. назначен его смотрителем. Позднее занимал должности смотрителя в Пинском (1908–1913) и Арзамасском (1913–1918) духовных училищах. В 1918–1926 гг. был приходским священником в двух селах Арзамасского уезда. В июне 1922 г. овдовел, в 1926 г. принял монашеский постриг под именем Сергия. 6 (19) июня 1927 г. был арестован, осужден постановлением Особого совещания ОГПУ к трехлетней ссылке в город Ирбит. 6 июня 1930 г. после отбытия ссылки был отправлен на поселение в Шадринск. 27 января 1933 г. был вновь арестован по делу о контрреволюционной монархической организации в Челябинском районе Уральской области «Союз спасения России». 11 августа 1933 г. следствие прекращено за недоказанностью. 10 октября 1933 г. назначен на Томскую кафедру. 9 июля 1934 г. по предложению митрополита Сергия (Страго-родского) возведен в сан архиепископа. 8 мая 1935 г. назначен архиепископом Новосибирским. В ночь с 4 на 5 мая архиепископ Сергий вместе с рядом духовенства и мирян был арестован. Ему было предъявлено обвинение в руководстве церковно-монархическим контрреволюционным центром, организации диверсий и повстанческих групп, контрреволюционной агитации. 25 июня 1937 г. приговорен к расстрелу тройкой УНКВД по Запсибкраю по статьям 58-2, 58-6, 58-11 УК РСФСР. Расстрелян 29 июля 1937 г. в г. Новосибирске Западно-Сибирского края.
«группировал вокруг себя контрреволюционный монархический церковный элемент и у себя на дому нелегально проводил нелегальные церковные службы, проводил нелегальные собрания» [ГАПК. Ф.1588. Оп.2. Д.30850. Л.122(об)].
Верующие создавали мужские и женские монастыри, которые действовали нелегально, хотя власти прекрасно знали об их существовании. Например, в конце 1927–1929 гг. во Владивостоке на Гайдамаковской улице существовал «женский нелегальный монастырь». Духовным наставником монашек был один из фигурантов следственного дела № 14040-1937 контрреволюционной монархической организации церковников тихоновской ориентации г. Владивостока, священник Василий Львович Топорков, расстрелянный по итогам рассмотрения «дела». В монастыре проживало более 100 монашек [ГАПК. Ф.1588. Оп.2. Д.30850. Л.139]; его настоятельницей была Валентина Прокопьевна Рассина [ГАПК. Ф.1588. Оп.2. Д.30850. Л.80].
Окормлением насельниц и приходивших на воскресные службы в этот монастырь родственников и знакомых монашек, в основном из сельской местности, В.Л. Топорков занимался по благословению архиепископа Киприяна [ГАПК. Ф.1588. Оп.2. Д.30850. Л.81] (в миру Константин Станиславович Комаровский; в 1925–1927 гг. – епископ Владивостокский и Приморский. – С.Д .)
Другая монашеская владивостокская община находилась в доме священника Н.Г. Плаксина. Она окормлялась игуменом Стефанием (Савиновым) [ГАПК. Ф.1588. Оп.2. Д.30850. Л.126, 138-139]. Религиозные службы этой монашеской общины также тайно посещали верующие не только г. Владивостока, но и других населенных пунктов.
Чтобы не прервалась традиция, вернувшиеся из ссылок и лагерей священники старались донести до сельского духовенства все решения, принимаемые в Москве митрополитом Сергием (в миру Иван Николаевич Страгородский).
Так, например, Топорков, Жариков, Кузнецов и Азрабкин (все бывшие служители Приморских приходов РПЦ) в 1932 г. смогли познакомить с воззванием митрополита Сергия (Страгородского), касающегося нововведений в проведении службы священников Приморской области Седанкинской общины Н. Плаксина, Шмаковской общины М. Гладковского, с. Голенки Г. Дымаева и др. [ГАПК. Ф.1588. Оп.2. Д.30850. Л.82-83].
Среди новых светских практик можно отметить: агитацию «за вступление в общину Тихоновского направления, доказывая, что обновленческая церковь – антихристова церковь, что только старая тихоновская церковь настоящая христианская» [ГАПК. Ф.1588. Оп.2. Д.30850. Л.201(об.)]; сбор пожертвований для оказания материальной помощи высланным или находящимся в заключении священнослужителям [ГАПК. Ф.1588. Оп.2. Д.30850. Л.125-125(об.)]; беседы на религиозные темы в магазинах, учреждениях и пр.; беседы с соседями о Новой Конституции, что для «Советской власти церковь и религия не в почете, что Советская власть нарушает Новую Конституцию, не дает полной свободы церкви и религии»
[ГАПК. Ф.1588. Оп.2. Д.30850. Л.125-125(об.)]; подготовку различных обращений в советские органы с требованием «возвращения верующим здания бывшего кафедрального собора» [ГАПК. Ф.1588. Оп.2. Д.30850. Л.93-94(об.)]; подготовку «возмущения-протеста в областную прокуратуру и секретарю крайкома ВКП(б) от имени церковной общины» с требованием прекратить «антирелигиозную компанию, проводимую Советской властью» [ГАПК. Ф.1588. Оп.2. Д.30850. Л.132] и пр.
За все эти светские практики священнослужителей с 1932 г. начинают отправлять в концлагеря [ГАПК. Ф.1588. Оп.2. Д.30850. Л.80-81, Л.126].
Не только сторонники патриарха Тихона (Белавина), но и обновленцы в 1920–1930-е годы на советском Дальнем Востоке не имели приемлемых условий для организации нормальной религиозной жизни. Православная вера в это время поддерживалась в среде обновленцев Дальнего Востока главным образом за счет сохранения традиций в семьях. В конце 1930-х годов во многих дальневосточных селах стали тайно организовываться «православные богослужения». Настоящими богослужениями эти встречи верующих не были, так как некому было проводить религиозные обряды и совершать таинства. В некоторых случаях культ тайно отправляли священники, официально порвавшие с религией и работавшие на советских предприятиях [23, с. 83]. Например, в г. Хабаровске в одной из обновленческих общин, в нарушение всех канонических традиций, было отмечено регулярное исполнение священнических обязанностей женщиной [ГАХК. Ф.Р-1359. Оп.1. Д.1. Л.36; 18, с. 211].
Харбин оказал влияние и на судьбу дальневосточных старообрядцев Белокриницкой иерархии.
-
8 февраля 1931 г. в Свободном по ст. 58-10 УК был арестован бывший временный дальневосточный епископ Старообрядческой Церкви Климент (в миру Карп Дмитриевич Логвинов). Доказать его контрреволюционную деятельность не удалось, епископ Климент был освобожден. Через год в феврале 1932 г. последовал его повторный арест. Во время обыска из кладовой его дома № 35 по улице Красноармейской изъяли предметы священнического облачения, 87 книг, 2 географические карты, 2 металлических креста, 4 грамоты и 2 складных посоха. И самое главное, была найдена переписка епископа Климента (Логвинова) со старообрядцами из г. Харбина и Трехречья.
Во внешнеполитических обстоятельствах нарастающей военно-политической конфронтации с милитаристской Японией, после ее оккупации северо-восточных провинций Китая и создания в 1932 г. марионеточного государства Маньчжоу-Го (Даманьчжоу-диго), переписка бывшего старообрядческого архиерея привлекла особое внимание руководства полномочного представительства (ПП) ОГПУ ДВК. Логика следствия была проста: имея тесную связь с заграницей на Дальнем Востоке, епископ Климент (Логвинов) может дать немало ценного материала для использования в дальнейшей работе по выяснению зарубежных связей старообрядцев.
-
16 декабря 1932 г. особое совещание при коллегии ОГПУ постановило выслать владыку Климента на 3 года в Казахстан, но 14 мая 1933 г. Климент (Логвинов) вновь оказался в Хабаровском изоляторе и после повторных допросов был привлечен к уголовной ответственности по обвинению в «более серьезном преступлении»: создании контрреволюционной организации («Всероссийский союз старообрядческих братств»). Фабрикация этого дела шла по аналогии с делом ленинградского братства протопопа Аввакума.
-
17 июля 1933 г. постановлением судебной тройки представительства ОГПУ по Дальневосточному краю епископ Климент (Логвинов) был приговорен к расстрелу по статье 58, пункты 2, 10, 12 Уголовного кодекса РСФСР («вооруженное восстание или любое действие с намерением насильственно отторгнуть от Советского Союза любую часть его территории; пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению советской власти; недонесение о достоверно известном, готовящемся или совершённом контрреволюционном преступлении»). Приговор приведен в исполнение 25 июля 1933 г. в г. Свободном.
В тот же день 17 июля 1933 г. судебная тройка постановила расстрелять еще 16 человек: двух старообрядческих священников Т.К. Афанасьева и С.Ф. Перова; сына священника В.Ф. Перова; хабаровского церковного старосту Т.М. Морозова; верующих Е.И. Бутковского, А.И. Бутковского, И.С. Минаева, У.И. Иванова, Е.С. Чебунина, А.И. Федотова, П.С. Калистратова, М.З. Афанасьева, М.В. Чебунина, Ф.В. Черухова, Л.К. Афанасьева, Е.П. Иванова.
Священника П.Ф. Изотова выслали в Зейский район на 3 года. По этому же делу 25 человек заключались в концлагерь сроком на 10 лет, 2 человека на 5 лет и 10 человек на 3 года.
Впоследствии аресты, связанные с «Всероссийским союзом старообрядческих братств», были продолжены. Руководство ПП ОГПУ ДВК допускало, что у этой «контрреволюционной повстанческой организации старообрядцев Белокриницкого толка» были ячейки в селах Хабаровского района: Марковке, Смирновке, Красной Речке и Князе-Волконке. Здесь проживали русские переселенцы из Румынии, приехавшие в Россию в начале XX в., поэтому было принято решение о проведении дополнительного и отдельного расследования.
В августе 1933 г. арестовывают первых 15 человек. Всего же в этом деле фигурировали не менее 50 человек. 11 января 1934 г. судебная тройка постановила по ст. 58-10, ч. II УК расстрелять старообрядческих священников П.Ф. Изотова, В.Г. Борисова, начетчика П.К. Голованова, М.В. Рябова, Н.Е. Семенова, 8 человек заключить в концлагерь на 10 лет и 2 человека на 5 лет. Они обвинялись также в практике обучения детей закону Божьему в подпольных религиозных школах, в связи со старообрядцами Харбина, не говоря уже о систематической антисоветской агитации, направленной к срыву всех кампаний и мероприятий советской власти на селе и антиколхозной деятельности [см. подробнее: 25; 26].
Можно сделать вывод, что в атмосфере шпиономании и охоты за реальными и вымышленными «классовыми врагами в городе и деревне» существование постоянных контактов между единоверцами, проживающими на территории СССР и в Северной Маньчжурии, явилось одной из причин политических репрессий на советском Дальнем Востоке как против Русской православной церкви (сторонников патриарха Тихона), так и Старообрядческой Церкви (Белокриницкой иерархии).
После продажи СССР своей доли КВЖД в 1935 г. около 30 тысяч русских харбинцев воспользовались возможностью выехать со своим имуществом в СССР, где была большая потребность в рабочих руках ввиду массовой индустри ализации. Они уезжали с воодушевлением, ведь большинство из них родились в России. Однако многие из них позже были арестованы по обвинениям в шпионаже и контрреволюционной деятельности согласно Приказу НКВД № 00593, подписанному Н.И. Ежовым 20 сентября 1937 г. и посвященному «террористической диверсионной и шпионской деятельности японской агентуры из так называемых харбинцев» (бывшие служащие Китайско-Восточной железной дороги и реэмигранты из Манчжоу-Го)». Исходя из того, что «за последний год репрессировано за активную террористическую и диверсионно-шпионскую деятельность до 4 500 харбинцев», был сделан следующий вывод: «выехавшие в СССР харбинцы, в подавляющем большинстве, состоят из бывших белых офицеров, полицейских, жандармов, участников различных эмигрантских шпионско-фашистских организаций и т.п. В подавляющем большинстве они являются агентурой японской разведки, которая на протяжении ряда лет направляла их в Советский Союз для террористической, диверсионной и шпионской деятельности» [16]. Определенная часть харбинцев, вернувшихся в СССР, осталась на территории советского Дальнего Востока, где многие из них родились и имели родственников.
Аресты «харбинцев», большинство из которых были православными верующими, начались с 1 октября 1937 г. Часть «харбинцев» из числа арестованных подлежала расстрелу, другая часть – заключению на 8–10 лет исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ). «Харбинцы», не попадающие под арест, были отстранены от работы на железнодорожном, водном и воздушном транспорте, а также на промышленных предприятиях. Освобождение из тюрем ранее заключенных «харбинцев» было прекращено. «Харбинцев» в СССР, согласно учету НКВД, было на тот момент около 25 тыс. человек, и все они были репрессированы [16].
Значительное влияние на повседневную жизнь дальневосточных православных верующих в конце 1920-х – 1930-е годы имело наличие на территории региона организованного в соответствии с Постановлением Совета Народных Ко миссаров СССР от 11 июля 1929 г. Дальлага.
Центральный концлагерь находился в Хабаровске, так как Хабаровск являлся столицей ДВК. Концлагерь № 2 находился на побережье Татарского пролива, а остальные лагеря располагались во Владивостоке и его окрестностях.
Концлагерь № 1 находился на склоне Саперной стопки, в бывших помещениях Владивостокской крепости (район нынешнего Моргородка). Недалеко было и место работы заключенных – бутощебеночный карьер. Второй лагерь находился в долине Первой Речки, в районе нынешней ул. Карьерной, 2, – он считался филиалом концлагеря № 1. Наконец, концлагерь № 3 располагался на острове Аскольд.
Поначалу в Дальлаге содержалось небольшое число заключенных. Их число колебалось от 30 до 40 тыс. чел., но с раскручиванием маховика репрессий количество выросло до 100 тыс. чел. В 1937 г. в Дальлаге содержалось 157 тыс. чел., а к 1938 г. сосредоточилось до 227 тыс. чел. В 1939 г. Дальлаг был расформирован. На базе лагерей Дальлага были сформированы: Владиво стокский исправительно-трудовой лагерь; Хабаровский исправительно-трудо вой лагерь; Средне-Бельский исправительно-трудовой лагерь; Бирский испра вительно-трудовой лагерь и Строительное Управление № 201 [см. подробнее: 6, с. 340-369; 20, с. 209].
Среди заключенных было значительное количество верующих, которые от своих религиозных взглядов не отказывались, а вели активную миссионерскую деятельность среди солагерников и вольнонаемных, с которыми сталкивались во время производственной деятельности: добыче угля и других полезных ископаемых, лесозаготовках и строительстве.
Приморских священнослужителей РПЦ и православных активистов чаще всего отправляли в концлагерь № 2 [ГАПК. Ф.1588. Оп.2. Д.30850. Л.74] (пос. Светлая)1. Находящиеся в Дальлаге Савинов, Стрелецкий, Скорняков не только проводили службы и требы для заключенных, но и «помогали идейно» в работе по «формированию нелегальных церковных общин, активизации существующих легальных, организации религиозных масс как в городе, так и на периферии» [ГАПК. Ф.1588. Оп.2. Д.30850. Л.74] находящимся на свободе священникам и православным активистам.
Ф.В. Стрелецкий – крупный лесопромышленник, арестованный в 1932 г., в Дальлаге работал техником, имел «свободный выход в г. Владивосток, посещал сына, который находится на воспитании сестры его жены» [ГАПК. Ф.1588. Оп.2. Д.30850. Л.84]. Имея свободный выход в город, Ф.В. Стрелецкий встречался с бывшими священнослужителями и информировал их о находящихся в лагере священниках и православных активистах, узнавал новости православной религиозной жизни и знакомил с ними находящихся в лагере верующих.
Находящимся в заключении священникам приморские православные верующие отправляли продовольственные и вещевые посылки и деньги. Сбором и пересылкой материальной помощи занималась Анисья Евтиховна Гращенко [ГАПК. Ф.1588. Оп.2. Д.30850. Л.74].
Православные верующие, находящиеся в Дальлаге, поддерживали связи с верующими других христианских конфессий – лютеранами, баптистами, евангельскими христианами и адвентистами седьмого дня. Иногда они совместно читали переписанное от руки Священное Писание, говорили о Боге и вере, о судьбе единоверцев, рассуждали о вероисповедной политике советского государства. Общая лагерная жизнь была для них более значимым фактором, чем догматические различия.
Заключение
Подводя итог анализу религиозной жизни православных верующих советского Дальнего Востока, можно сделать несколько выводов.
Во-первых, заметную роль в жизни дальневосточных православных верующих, как и верующих других конфессий, сыграл Русский Харбин. С одной стороны, связи верующих советского Дальнего Востока со своими единоверцами в Маньчжурии были одной из причин репрессий, с другой – в Харбине православная вера сохранилась «в чистоте», не была подвержена влиянию обновленчества и после возвращения части харбинцев на советский Дальний Восток в 1935 г. оказала влияние на укрепление позиций сторонников патриарха Тихона (Белавина), что в определенной степени поспособствовало возрождению православной религиозной жизни в годы Великой Отечественной войны.
Во-вторых, заметную роль в сохранении православной религиозной традиции сыграли находящиеся в лагерях Дальлага православные священники и активисты, которые не только не отказывались от своих религиозных убеждений, но и оказывали методическую и организационную помощь в сохранении православной веры немногочисленным священникам и верующим.
Список литературы Русский Харбин и Дальлаг в судьбе православных верующих советского Дальнего Востока в 1920-1930-е годы
- Абросимов И.А. Под чужим небом. – М.: Молодая гвардия, 1990. – 349 с.
- Аурилене Е.Е. Российская диаспора в Китае (1920–1950-е гг.). – Хабаровск: Частная коллекция, 2008. – 272 с.
- Аурилене Е.Е. Российская эмиграция в Китае (1920–1950-е гг.): Автореф. дис. … д-ра ист. наук. – Хабаровск, 2004. – С. 29.
- Витте С.Ю. Воспоминания. – М., 2017. Т. 2. – 700 с.
- Гончаренко О.Г. Русский Харбин. – М.: Вече, 2009. – 256 с.
- Дальний Восток России в эпоху советской модернизации: 1922 – начало 1941 года / под общ. ред. чл.-корр. РАН В.Л. Ларина; отв. ред. Л.И. Галлямова. (История Дальнего Востока России. Т. 3. Кн. 2). – Владивосток: Дальнаука, 2018. – 656 с.
- Дацышен В.Г. «Конфликт на КВЖД 1926 г.» и «Конфликт на КВЖД 1929 г.»: сравнительно-исторический анализ советской политики // Сравнительная политика. – 2018. – Т. 9. – № 4. – С. 74-75.
- Забияко А.А., Забияко А.П., Левошко С.С., Хисамутдинов А.А. Русский Харбин: опыт жизнестроительства в условиях дальневосточного фронтира / под ред. А.П. Забияко. – Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2015. – 462 с.
- Капран И.К. Повседневная жизнь русского населения Харбина (конец XIX в. – 50-е гг. XX в.). – Владивосток: Изд-во ДВФУ, 2011. – 202 с.
- Коростелев В.А., Караулов А.К. Православие в Маньчжурии. 1898–1956 / под ред. О.В. Косик. – Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2019. – 888 с.
- Кротова М.В. Харбин – центр русского влияния в Маньчжурии (1898–1917 гг.). – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2010. – 111 с.
- Левитский В.В. Пристань на Сунгари. – Харьков, 1998. Т. 1: (Инострания). Мосты и смыслы, искания и сомнения. – 171 с.
- Левитский В.В. Пристань на Сунгари. – Харьков, 1998. Т. 2: (Сновидения). Счастье. Дом. Любовь. Судьба. Вера. – 215 с.
- Мелихов Г.В. Белый Харбин: Середина 20-х. – М.: Русский путь, 2003. – 440 с.
- Наземцева Е.Н. Правовое бесправие в восприятии русской эмиграции в Ки-тае в 1920-е гг. // Общество и государство в Китае. – М.: ИВ РАН, 2015. Т. ХLV. Ч. 2. – С. 698.
- Оперативный приказ № 00593 наркома внутренних дел СССР о репрессиях против бывших служащих Китайско-Восточной железной дороги и реэми-грантов из Китая. Москва, 20 сентября 1937 г. //Электронная библиотека исторических документов. [Электронный ресурс]. URL: https://docs.historyrussia.org/ru/nodes/170382-operativnyy-prikaz-locale-nil-00593-narkoma-vnutrennih-del-sssr-o-repressiyah-protiv-byvshih-sluzhaschih-kitaysko-vostochnoy-zheleznoy-dorogi-i-reemigrantov-iz-kitaya-moskva-20-sentyabrya-1937-g (дата обращения: 15.10.2024).
- Петров В.П. Город на Сунгари. – Вашингтон: Издание Русско-Американского исторического общества, 1987. – 217 с.
- Религия и власть на Дальнем Востоке России: Сб. док. Государственного архива Хабаровского края. – Хабаровск: Частная коллекция, 2001. – С. 211.
- Родионова К.И. Харбин. Вера и отчуждение: христианские меньшинства российской диаспоры Северо-Восточного Китая. – М.: Новое литературное обозрение, 2024. – 272 с.
- Система исправительно-трудовых лагерей в СССР, 1923–1960: Справочник / под ред. Н.Г. Охотина, А.Б. Рогинского. – М.: Звенья, 1998. – 602 с.
- Старосельская Н.Д. Повседневная жизнь «русского» Китая. – М.: Молодая гвардия, 2006. – 376 с.
- Таскина Е.П. Неизвестный Харбин. – М.: Прометей, 1994. – 192 с.
- Ткачева Г.А. Крестный путь Русской православной церкви (1917–1945 го-ды) // Культура, наука и образование народов Дальнего Востока России и стран АТР: история, опыт, развитие: Мат-лы междунар. конф. Вып. 5. – Ха-баровск, 1996. – С. 81-84.
- Троицкая С.С. Русский Харбин: Воспоминания. – Брисбен, 1995. – 64 с.
- Шевнин И.Л. История старообрядческого братства // Словесница искусств. – 2012. – № 2(30). [Электронный ресурс]. URL: https://www.slovoart.ru/node/1186 (дата обращения: 17.08.1924).
- Шевнин И.Л. Старообрядцы на Дальнем Востоке. Трагические страницы // Словесница искусств. – 2010. – № 1 (25). – С. 56-60.