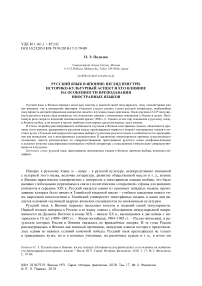Русский язык в Японии: взгляд изнутри. Историко-культурный аспект и его влияние на особенности преподавания иностранных языков
Автор: Подалко Петр Эдуардович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 2 т.17, 2018 года.
Бесплатный доступ
Русский язык в Японии пережил несколько взлетов и падений своей популярности, чему способствовал ряд как внешних, так и внутренних факторов. Отдельно следует сказать о роли русской литературы, необычайная популярность которой привлекала множество людей к изучению языка оригинала. После распада СССР популярность русского языка стала снижаться, что полностью совпало с изменением отношения к России в целом. Негативную роль сыграли японский экономический кризис 1990-хгг. Однако до сих пор отношение к русскому языку в Японии особое, ион входит в группу наиболее популярных среди изучаемых здесь языков. В статье подробно рассматриваются особенности изучения в Японии иностранных языков, объясняются причины этого явления, раскрываются различия между преподаванием первого и второго иностранных языков в местных вузах. Отдельно анализируются причины выбора студентами русского языка и особенности его преподавания как японскими, так и иностранными специалистами. В заключение анализируются причины существующего положения, даются рекомендации по совершенствованию преподавания русского языка инофонам-японцам и делается попытка классификации имеющейся учебной литературы с пожеланиями относительно совершенствования ее в будущем.
Русский язык, преподавание иностранных языков в японии, причины выбора, японская специфика
Короткий адрес: https://sciup.org/147219910
IDR: 147219910 | УДК: 811.161.1 | DOI: 10.25205/1818-7919-2018-17-2-79-89
Текст научной статьи Русский язык в Японии: взгляд изнутри. Историко-культурный аспект и его влияние на особенности преподавания иностранных языков
Интерес к русскому языку и – шире – к русской культуре, непосредственно связанной с историей этого языка, включая литературу, развитие общественной мысли и т. д., возник в Японии практически одновременно с интересом к иностранным языкам вообще, что было вызвано глобальными переменами в связи с политическим «открытием» страны для внешних контактов в середине XIX в. Русский оказался одним из основных западных языков, преподавание которых было начато в Токийской языковой школе – учебном заведении нового типа, выросшим впоследствии в Токийский университет иностранных языков, в наши дни является основной «кузницей кадров» японских специалистов по иноязычным культурам.
Русский язык в Японии пережил несколько взлетов и падений своей популярности. Первый подъем интереса к России и ее языку совпал с обострением международной напряженности на Дальнем Востоке в конце XIX – начале XX в., вылившимся в две войны с интервалом в 10 лет (1894‒1895 гг. – Японо-китайская, 1904‒1905 гг. – Русско-японская), в результате которых Россия и Япония оказались во враждебных лагерях. В те годы Россия рассматривалась в Японии как военный противник, овладение языком которого представлялось одним из важных условий конечной победы. Русский язык преподавался не только в гражданских вузах, но и в военных училищах, на различных курсах и т. п., в итоге им
Подалко П. Э . Русский язык в Японии: взгляд изнутри. Историко-культурный аспект и его влияние на особенности преподавания иностранных языков // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2018. Т. 17, № 2: Филология. С. 79–89.
ISSN 1818-7919. Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2018. Том 17, № 2: Филология © П. Э. Подалко, 2018
в разной степени владел довольно широкий круг лиц из самых разных слоев общества, вплоть до высших чинов армии и руководителей государства 1. Со временем политическая ситуация вновь стала меняться от конфронтации к сотрудничеству, и в соответствии с этим изменялось отношение к русскому языку. Отдельно следует сказать о роли, которую играла в те годы русская литература, необычайная популярность ее в мире привлекала множество людей к изучению языка оригинала. Не стала исключением и Япония. Известен такой факт: в 1908 г. количество переводных изданий с русского языка, вышедших в Японии, превысило суммарный объем переводов всей англоязычной литературы, притом, что на тот момент прошло всего три года со времени сдачи Порт-Артура и Цусимского разгрома. Здесь мы констатируем невиданный интерес к культуре не могущественного победителя в войне, а, напротив, побежденной стороны, что уже само по себе весьма примечательно.
Революция 1917 г. и последовавшие за ней военная интервенция в Сибири, Гражданская война и прочие события снизили общий интерес ко всему русскому у гражданского населения Японии, а идеологическое и политическое противостояние последующих лет усугубили этот процесс. Государственный национализм 1930‒1940-х гг. не способствовал широкому изучению иностранных языков; напротив, принимались меры по ограничению использования иностранной лексики в быту, проводились своеобразные «языковые чистки», переименования различных терминов и т. д. Всё это отчасти напоминало кампанию по борьбе с космополитизмом в СССР десятилетием позже.
Очередной подъем интереса к русскому языку в Японии был связан с полетом Юрия Гагарина и началом масштабного освоения космоса, когда для технической интеллигенции во многих странах мира русский стал языком передовой научной мысли. Следующий взлет популярности пришелся на перестроечные времена конца 1980-х – начала 1990-х гг., когда Россия и русская культура вызывали большой интерес у японских туристов и учащейся молодежи. Тогда же в японский язык вошли слова гласность , перестройка и ряд других. После распада Советского Союза популярность русского языка стала снижаться, что полностью совпало с изменением отношения к России в целом. Эйфория от горбачевского периода прошла, Россия более не пугала никого своей военной мощью, но также перестала привлекать и в качестве возможного партнера и сотрудника, одновременно раздражая японцев отсутствием порядка во всех сферах жизни общества. Нестабильность экономической ситуации и непредсказуемость руководства, шараханье от идей глобального сотрудничества до крайнего национализма привело к тому, что многие японские компании не стали глубоко внедряться в российский рынок, ограничившись ознакомительными вояжами своих официальных или полуофициальных представителей. Негативную роль сыграл и японский экономический кризис 1990-х гг., в результате которого многим японским фирмам пришлось свернуть уже начатую деятельность в России.
В настоящее время японские специалисты-русисты, как правило, не могут найти работу, связанную с применением русского языка. Переводческая деятельность рынка рабочих мест не создает. Последнее отчасти усугубилось встречным предложением, вызванным «японским бумом» в российских городах. С началом перестройки интерес ко всему японскому в России чрезвычайно вырос, и первыми на это отреагировали учебные заведения, как государственные, так и частные, начав подготовку всевозможных «японистов» и «востоковедов» в «промышленных» масштабах. Если в 1985 г. (год начала перестройки) подготовка дипломированных японоведов осуществлялась лишь в университетах Москвы, Ленинграда (ныне – Санкт-Петербург), Владивостока и Новосибирска, то в конце следующего десятилетия в России почти не осталось областных центров, где бы ни велось обучение японскому языку в местных вузах и на всевозможных курсах. Как следствие, число россиян, в разной степени владеющих японским языком, выросло в разы, многие из них постепенно перебирались в Японию, создавая конкуренцию местным специалистам. Получить преподавательскую ставку на славистских кафедрах японских вузов в настоящее время крайне сложно, а всю жизнь быть «почасовиком», работая по совместительству в нескольких университетах, ‒ незавидная перспектива, которая к тому же не слишком высоко оплачивается. Любопытно, что если разделить заработок на количество преподаваемых часов, то оказывается, что преподаватель-совместитель получает более высокую сумму в час, нежели его штатный коллега, но малое количество рабочих часов в пересчете «на человека» (один совместитель имеет, как правило, не более 2‒3 учебных «пар», т. е. 4‒6 академических часов в неделю в одном университете, и редко кому удается получить работу более чем в трех местах одновременно) приводит к тому, что месячная зарплата у первого и второго различается в несколько раз и всегда в пользу штатного преподавателя.
Однако и до сих пор отношение к русскому языку в Японии особое, и он входит в группу наиболее популярных среди изучаемых здесь языков. Так, в 2004 г. русский язык преподавался в 116 учебных заведениях, т. е. почти в каждом десятом из 1 219 вузов и профессиональных училищ, имевшихся на тот момент в Японии (в 2016 г. в Японии насчитывалось 777 университетов полного, т. е. четырехлетнего, периода обучения. – П. П. ). Русский язык изучали на различных курсах в 19 школах и 3 училищах (по данным, полученным автором от Г. Ю. Такигава-Никипорец, бывшей в то время доцентом Токийского университета иностранных языков). На русском языке пять раз в сутки вещало Радио Японии. Русский язык, один из восьми иностранных, ежедневно утром и вечером преподавался по радио и два раза в неделю по телевидению (учебный канал). Учебники и пособия для радиокурса и телекурса и поныне продаются почти в каждом крупном книжном магазине, создавая таким образом рекламу русскому языку и делая его изучение доступным и незатратным занятием в весьма дорогой с точки зрения проживания и обучения стране. Каждый год проводятся два всеяпон-ских конкурса на знание русского языка; один из них, устраиваемый под эгидой Общества «Евразия» (бывшее Общество «СССР – Япония»), отметил в 2016 г. сорокапятилетний юбилей. Однако все эти цифры не должны вводить читателя в заблуждение, ибо существующие кафедры русского языка, а также кафедры иных гуманитарных дисциплин с включением штатных преподавателей-русистов есть не что иное, как рудимент, свидетельствующий в гораздо большей степени о былой популярности русского языка, нежели о его востребованности в современной жизни, а также как итог перепроизводства преподавательских кадров в эпоху экономического развития Японии в 1980-х гг. Об этом говорит также тот факт, что за последнее десятилетие по всей Японии закрылось множество преподавательских ставок русистов, и уход штатного сотрудника на пенсию по возрасту либо выбытие его по болезни или смерти почти всегда приводит не к занятию его места новым штатным преподавателем, но к передаче освободившейся ставки почасовикам (так называемый «раздел» учебных часов между несколькими совместителями) – это в лучшем случае, а чаще всего преподавательская ставка попросту ликвидируется и в расписание занятий на следующий учебный год вносятся необратимые изменения. К негативным явлениям следует отнести также сокращение учебных телепрограмм по русскому языку – в настоящее время преподавание русского на учебном канале японского телевидения ограничено одной получасовой передачей в неделю. Газета «Асахи», одна из крупнейших в стране, еще в 2001 г. отказалась от дальнейшего проведения под своим патронажем отдельного конкурса на знание русского языка.
Следует особо сказать о специфике отношения к изучению иностранных языков, сложившегося в Японии после Второй мировой войны, при котором важен прежде всего сам факт изучения языка, а качество и объем реальных знаний не имеет большого значения. Дело в том, что русский язык в подавляющем большинстве университетов изучается как факультативный, а не обязательный предмет, обычно в дополнение к английскому языку, который сразу после окончания Второй мировой войны был введен в программы всех без исключения японских университетов. Подобный подход к изучению иностранных языков существует уже много лет, и в соответствии с ним все студенты как гуманитарных, так и технических специальностей, изучают в обязательном порядке английский язык (он же входит в программу всех японских средних школ первой и второй ступеней, что соответствует 7‒12 классам) и еще один иностранный по выбору. Названный выбор в зависимости от вуза включает в себя перечень из 2‒6 вариантов, как правило: немецкий, французский, русский, китайский, корейский, испанский (реже – итальянский или португальский) языки. Таких университетов, где русский язык в качестве «второго иностранного» преподается в добровольно-обязатель- ном порядке, т. е. с включением его в учебный план и наличием штатных преподавательских единиц, насчитывается всего пятнадцать. Срок изучения русского языка студентами в данном случае варьируется от одного до трех лет в соответствии с особенностями учебных планов, которые в каждом вузе определяются самостоятельно и могут различаться между собой внутри одного университета в зависимости от отдельно взятого факультета, конечной специализации студентов и т. д. Особняком стоят так называемые «языковые вузы», где существует специализация по отдельным языкам при сохранении английского как обязательного второго иностранного языка, к тому же нередко предоставляется возможность факультативно изучать третий язык. Таких языковых университетов «полного профиля» с четырехлетним периодом обучения избранному языку в Японии насчитывается всего девять. Таким образом, ежегодно в целом по стране русский язык одновременно изучает примерно 2000 студентов, из них около 15 % (примерно 300 человек) учатся в Токийском университете иностранных языков.
Говоря о факультативном преподавании русского языка (как, впрочем, и других иностранных языков, ибо подход здесь одинаков для всех без исключения), необходимо дать ряд важных пояснений.
Во-первых, факультативным языкам отводится в большинстве университетов всего два (реже – четыре) академических часа в неделю в течение одного-трех лет. При этом количество студентов в аудитории может доходить до 50 и более человек (это, впрочем, бывает сравнительно редко, чаще же в классе одновременно находится 30‒40 студентов), что заведомо не является благоприятным условием для изучения иностранного языка. В этих условиях невероятно трудно осваивать чужое произношение, поддерживать необходимую для этого тишину, не говоря о том, что преподаватель физически не в состоянии опросить хотя бы по одному разу каждого студента за урок, а иногда – и за целый семестр.
Во-вторых, во многих университетах, желая сохранить рабочие места почасовикам, поручают вести занятие двум преподавателям по очереди. Подобное стремление сберечь имеющиеся кадры, избегать по возможности увольнений является одной из наиболее характерных особенностей японского менеджмента. Однако общий контроль за преподаванием в такой ситуации ведется крайне редко, и в большинстве случаев преподаватели не только используют различные учебные пособия и ведут занятия по раздельным планам, но и никак не соотносят содержание занятий друг с другом, а порой и вовсе могут быть незнакомы друг с другом. Общее руководство призван осуществлять штатный сотрудник, представляющий интересы кафедры (если таковая имеется), но и он старается по возможности не вмешиваться в учебный процесс, избегая потенциальных конфликтов и тем самым помогая «сохранить лицо» всем участникам.
Понятно, что учить язык при такой организации учебного процесса нелегко. Надо признать, что большинство студентов и не пытается это делать, чему немало способствует сама система обучения и оценки получаемых знаний. На тот или иной курс студенты записываются для набора необходимых зачетных баллов, при этом иностранному языку уделяется внимание лишь постольку, поскольку а) необходим сам факт его наличия в итоговой ведомости; б) при устройстве на работу возможность упомянуть об опыте изучения редких, «экзотических» языков (к которым относится и русский язык) дает шанс произвести положительное впечатление как человека с широким кругозором, но отнюдь не является решающим фактором, настоящий уровень владения тем или иным языком (исключая английский) в этом случае не важен. В такой ситуации, тем более при наличии выбора из нескольких предлагаемых студентам языков, шансы русского на то, что в итоге предпочтут именно его, крайне невелики. Этому способствует и широко распространенное представление о непомерной трудности русского языка, его отличии от основных западных языков (и как следствие – невозможность облегчить изучение посредством каких-то аналогий, например, используя знание основ английского языка), сложность кириллического алфавита и пр. В результате, за небольшими исключениями (о которых речь пойдет ниже), студенты по возможности избегают русского языка, предпочитая ему более близкие японскому письменно и ментально корейский либо китайский, а также французский, немецкий и др. Очень многое здесь также зависит от текущей политической обстановки в мире, публикаций в прессе, семейных предпочтений, стереотипов сознания и иных косвенных факторов, причем в случае с японской аудиторией роль и место, которые играют подобные стереотипы, представляются гораздо более существенными факторами воздействия на конечный выбор студента, нежели это было бы в западном обществе. С учетом всего перечисленного можно с достаточно высокой степенью уверенности утверждать, что в обозримом будущем количество университетов, в которых русский язык существует, может продолжать сокращаться в соответствии с физическим убыванием преподающих кадров. При этом, вероятнее всего, останутся лишь те, в которых русский язык преподается как обязательный предмет. Как указано выше, на сегодня таких университетов в Японии насчитывается двадцать четыре, при этом четыре самых крупных из них (с точки зрения изучения русского языка) находятся в Токио. Это Токийский государственный университет, Токийский университет иностранных языков, Университет Дзёти (он же – Университет София), Университет Васэда 2.
В последние годы преподавание русского языка, как и всех прочих иностранных языков (за исключением английского) в Японии столкнулось с еще одной проблемой, связанной с попытками реформирования образовательных подходов в общем русле реформ различных сфер общественной жизни. Речь идет о пересмотре учебных программ с целью оптимизировать преподавание тех или иных дисциплин, с учетом реальных потребностей как общества в целом, так и отдельных компаний и лиц. На практике это означает стремление пойти по западному пути «прагматизации» образования, в ходе чего ожидается пересмотр возможности и целесообразности преподавания иностранных языков, как «вторых», так и «третьих» факультативных, с тем чтобы оставить только те языки, которые студенты могут и хотели бы изучать. С этой целью регулярно проводятся всевозможные опросы и анкетирование студентов с целью выяснения реальных предпочтений, на основании чего составляются различного рода рекомендательные письма и запросы в Министерство образования и науки, которые затем возвращаются в университеты в виде конкретных пожеланий по пересмотру учебных программ. Радикальные перемены на данном этапе пока тормозятся нежеланием ученых советов большинства вузов идти на резкое обновление программ, чему будет сопутствовать неминуемое массовое сокращение преподавателей и слом традиционных отношений внутри коллектива, что плохо вписывается в традиции японского менеджмента и всегда чревато непредсказуемыми последствиями. Но легко предположить, что постепенная смена поколений преподавательских и управленческих кадров, многие из которых уже стремятся действовать по глобальным (читай – западным) образцам, в недалеком будущем может привести к значительному сокращению объемов преподавания русского языка и культуры в японских университетах.
Почему студенты выбирают русский язык? Причин несколько, рассмотрим наиболее часто встречающиеся.
Во-первых, если речь идет о языковых вузах, то здесь проходной балл на русское отделение ниже, чем, к примеру, на английское или китайское, в то время как план приема одинаков. Поскольку в Японии для последующего устройства на работу, для повышения социального статуса человека факт обучения в престижном вузе всегда имел более важное значение, нежели название конкретного факультета или полученная там специальность – подобный взгляд может вызвать удивление у русской аудитории, но для Японии это обычное дело, – то возможность попасть в университет «с именем» на более легких условиях обеспечивает стабильный приток первокурсников на русское отделение вне зависимости от наличия или отсутствия особой тяги к русскому при поступлении.
Во-вторых, многие надеются, что, выбрав заведомо не самый престижный иностранный язык, они могут рассчитывать на определенные послабления как во время обучения, так и при сдаче зачетов и экзаменов. Это особенно часто встречается у студентов, изучающих русский как «второй иностранный». Ни для кого не является секретом то сложное положение, в котором оказываются преподаватели-почасовики, ежегодно с волнением ждущие очередного набора студентов, опасаясь потерять свои учебные часы и приносимые ими средства к существованию. Следствием такой боязни становится снижение требовательности на уро- ках, повышенная лояльность преподавателей к прогульщикам, готовность устраивать пересдачи отстающим студентам и т. п. В то же время распространение Интернета и различных студенческих сайтов и социальных сетей привело к тому, что практически о каждом преподавателе можно заранее собрать всю интересующую информацию, вплоть до хобби, педагогических приемов, человеческих слабостей и пр. Было бы неверно считать, что русский язык выбирается сплошь и рядом «от противного», но сам факт наличия подобного выбора (наряду с другими, о которых речь пойдет далее) слишком очевиден, чтобы его замалчивать.
Однако положительных причин выбора русского языка, к счастью, всё еще гораздо больше, чем отрицательных. Перечислим наиболее характерные примеры.
-
1. Высокий авторитет русского направления в целом. Типичным примером здесь может служить Токийский университет иностранных языков, который по сути и вырос из маленькой школы русского языка, открытой более столетия назад, в конце XIX в. Другой пример – один из крупнейших и старейших частных вузов страны, Университет Васэда, где русское отделение возникло в самом начале его существования. Наличие среди выпускников соответствующих кафедр знаменитых деятелей культуры, политики, известных русистов и славистов также способствует популярности русского языка.
-
2. Деловой интерес. Будущие бизнесмены надеются, что Россия вновь станет привлекательной для японского бизнеса, справедливо рассуждая, что для поисков хорошей работы в этом направлении одного английского языка недостаточно, особенно если придется работать на российской территории. К этой группе относятся также студенты, проявляющие интерес к истории, культуре, деловой жизни бывших советских республик (а порой и стран бывшего социалистического лагеря), резонно полагая при этом, что знание русского языка сыграет позитивную роль в качестве средства коммуникации при отсутствии возможности изучать отдельные локальные языки с ограниченной сферой применения.
-
3. Индивидуальный интерес. Всегда есть студенты, которые выбирают русский просто потому, что он им нравится. Нравятся мелодика, интонация, звуки русской речи, необычные русские буквы. Многих интересует русская классическая и современная музыка, русский балет (последнее касается в особенности девушек, так как обучение девочек в балетных кружках чрезвычайно популярно в Японии), русская литература, театр, кино, русская культура в целом. Надо сказать, что многие японцы среднего и старшего поколений с большим уважением относятся к классической русской культуре. Пример и вкусовые предпочтения родителей оказывают влияние и на формирующиеся предпочтения младшего поколения, благодаря чему русский язык до сих пор пользуется особой популярностью в Японии. Как правило, все студенты, выбирающие русский язык, уже что-то слышали ранее о России и хотят ее лучше узнать, в результате в классы приходит много студентов, которые готовы серьезно учить русский язык.
Особенности преподавания русского языка в японском университете – отдельная непростая тема. К сожалению, приходится признать, что в существующих условиях трудно рассчитывать на хороший результат в изучении не только русского, а и любого иностранного языка. Причин тому несколько. Во-первых, малое количество учебных часов, о чем говорилось выше. При наличии в классе одновременно свыше 20 человек (что является не исключением, а нормой) одна или две учебные «пары» в неделю не дают возможности преподавателю организовать хоть сколько-нибудь индивидуальный подход к студентам, а без этого искомый результат невозможен – иностранный язык нельзя выучить «хором». При наличии в среднем 15 учебных недель в семестре на год выходит всего лишь от 60 до 120 учебных часов (речь здесь идет о преподавании русского как «второго иностранного» ‒ в языковых вузах ситуация несколько иная, там на занятия профильным языком на первом курсе может отводиться 10 и даже 12 академических часов в неделю), часть из которых выпадает на различные праздники, национальные выходные и т. д., часто без последующей компенсации.
Во-вторых, сам принцип посещаемости занятий в японском университете не дает возможности студентам толком учиться. При официальном четырехлетнем университетском цикле реально студенты учатся в лучшем случае первые два года, ибо уже начиная с третьего курса они в большинстве своем начинают поиски будущего места работы, на что уходит в лучшем случае несколько месяцев, а нередко и полгода и больше. Дело в том, что в Японии отбор претендентов на вакансии из числа выпускников университетов начинается задолго до окончания студентами вузов и происходит по общему стандарту, суть которого такова: все сколько-нибудь известные и по этой причине привлекательные для трудоустройства компании проводят расширенные семинары для потенциальных соискателей мест по заранее объявленному графику. На этих семинарах слушателей знакомят с историей компании, ее промышленным профилем и особенностями деятельности, социальной сферой, отличиями от конкурентов и т. д., при этом ведется строгий внутренний учет посещаемости подобных мероприятий. Таким образом, если будущий выпускник не был ранее зарегистрирован в качестве участника таких собраний-семинаров, шансы его устроиться в данную фирму практически равны нулю. Учитывая, что хороших рабочих мест всегда меньше, чем желающих их занять, студенты вынуждены посещать огромное количество подобных семинаров, на которых они знакомятся с разными компаниями, а те, в свою очередь, знакомятся с будущими сотрудниками, и в процессе этого знакомства происходит тщательное «просеивание» предлагаемого человеческого материала. Зная, что поступить в престижный университет очень трудно (а сам факт поступления уже означает определенный результат первичного отбора), работодатели оценивают соискателей прежде всего по «внешним признакам»: в каком университете обучается студент, умеет ли он себя вести, как держится, как реагирует на задаваемые вопросы, и уже во вторую (а то и в третью) очередь их интересует, чему он там, собственно, обучается. Все эти семинары-смотрины обычно проводятся весной и осенью, т. е. в разгар учебного процесса, и всегда проходят в утренние и дневные часы, что вот уже много лет вызывает активное недовольство руководства университетов, но заведомо не подлежит пересмотру и потому не встречает сколько-нибудь заметного реального сопротивления. Таким образом, уже с начала третьего курса многие студенты вынуждены регулярно пропускать занятия для участия в отборочных семинарах, проводимых промышленными компаниями, и если в случае некоторых предметов эти пропуски можно попытаться позднее наверстать путем самостоятельных занятий, то для иностранного языка такой подход однозначно неприемлем.
Есть и другие проблемы, затрудняющие процесс обучения русскому, и одна из главных связана с преподавательским корпусом. Здесь также можно выделить несколько моментов.
-
1. Профессиональная загруженность. Как известно, в Японии отсутствует общенациональная независимая академическая структура, подобная Российской академии наук. Наука носит в основном прикладной характер, что на практике выражается в наличии исследовательских институтов и лабораторий в составе крупных корпораций, а также нескольких объединенных исследовательских центров физических и биохимических исследований, созданных по типу научного городка (крупнейший из них находится в городе Цукуба в 140 км от Токио). Гуманитарии же лишены подобных возможностей, и почти вся гуманитарная наука сосредоточена в вузах. Иначе говоря, любой японский ученый гуманитарной специальности ‒ лингвист, историк, политолог, археолог – одновременно является преподавателем вуза с обязательной почасовой нагрузкой, и наоборот: любой штатный преподаватель обязан вести какую-то научную работу для подтверждения своего статуса исследователя. В результате студенты нередко сетуют на то, что преподаватели бывают чересчур сосредоточены на своей научной работе, ездят на различные конференции и бывают труднодоступны вне академических занятий. Преподаватели, в свою очередь, жалуются на то же самое, а также на излишнюю обремененность административной и прочей работой. Невозможность же вести занятия в малых группах лишает студентов разговорной практики, а отсутствие у преподавателя свободного времени не позволяет проводить внеурочные встречи со студентами.
-
2. Профессиональная неподготовленность преподавателей-иностранцев. В 1980-х гг., в период так называемой «третьей интернационализации» образовательного процесса (первая «интернационализация» образования пришлась на период реформ Мэйдзи во второй половине XIX в., вторая была связана с демократическими преобразованиями после Второй мировой войны) в Японии стала популярна идея привлечения носителей соответствующего языка в качестве ассистентов преподавателей с целью повышения качества обучения. В результате этого в университетах Японии стали возникать преподавательские тандемы в составе профессионального преподавателя (как правило, японца), объяснявшего грамматику, и иностранца, отвечавшего за овладение фонетикой, ставившего правильное произношение и озвучивавшего учебные тексты. Сама по себе идея была хороша, но, как это нередко быва-
- ет, она же породила массу перегибов, основным из которых стала постепенная убежденность в том, что быть носителем языка – не только необходимое, но и само по себе вполне достаточное условие для того, чтобы считаться полноценным преподавателем. В университетах стали появляться преподаватели из числа иностранцев, не только не имеющие научных степеней и званий, но и соответствующего образования и педагогического опыта, единственным достоинством которых был сам факт рождения в стране преподаваемого языка. В случае с русским языком это еще более усугубилось последовавшим вскоре распадом СССР и появлением в Японии представителей бывших союзных республик в качестве преподавателей русского языка; многие из них при несомненном знании последнего сохраняли вместе с тем специфический акцент (кавказский, среднеазиатский, прибалтийский и др.), а также иные особенности владения русским как неродным языком, что являлось известным препятствием в обучении ими студентов. Нередки были также случаи, когда японские преподаватели, желая оказать помощь своим русскоговорящим знакомым (в том числе и японцам), поддержать их материально, устраивали их на работу в свои университеты по принципу личного поручительства. Однако, если по-человечески такие поступки были и весьма гуманны, это вовсе не значит, что они были оправданны с точки зрения правильной организации педагогического процесса. Правда, к чести японского руководства, надо отметить, что со временем руководство Министерства образования осознало всю опасность, которую несет подобный подход к проблеме пополнения кадров, и в настоящее время любой претендент на должность преподавателя русского (как и любого другого) языка должен иметь как минимум магистерскую степень и три года стажа по специальности либо докторскую степень (в этом случае преподавательский стаж не обязателен).
-
3. Профессиональная неподготовленность преподавателей-японцев. В японской аудитории существует определенная национальная специфика, которая делает задачу развития навыков устной речи особенно актуальной. Японских студентов достаточно сложно разговорить, они привыкли слушать преподавателя и записывать новый материал. Исторически необходимость обучения студентов говорению никогда не рассматривалась как что-то первоочередное по степени важности. Правда, в отличие от преподавателей, студенты эту необходимость давно понимают, и с каждым годом всё громче заявляют об этом в ходе опросов, анкетирования по предметам и пр. Однако многие преподаватели старшего и среднего поколений не вполне отвечают требованиям, предъявляемым эпохой глобализации, когда не письменная речь, не умение читать тексты, а возможность вербального общения составляет в глазах молодежи основную привлекательность владения иностранным языком. Особенно велик бывает разрыв между спросом и предложением, когда речь заходит об учебных пособиях. Многие преподаватели остаются навсегда верны тем учебникам, с которых когда-то начинали свою педагогическую карьеру, совершенно не реагируя на изменения конъюнктуры и устаревание содержания этих учебников. Любопытны результаты исследования, проведенного пятнадцать лет назад среди преподавателей японских вузов и профессиональных училищ, где велось обучение русскому языку. По мнению ответивших, чтобы улучшить систему преподавания русского языка, необходимо выполнение следующих условий: формирование положительного образа России у японцев, улучшение политических и экономических отношений с Россией – 61 ответ; больше учебных часов ‒ 36; новые учебники ‒ 33; система уровневого обучения ‒ 26; приглашение иностранных преподавателей ‒ 18; обмен опытом, повышение квалификации преподавателей ‒ 15; сокращение числа студентов в группе ‒ 14; создание лингафонных кабинетов ‒ 7; больше магистратур ‒ 3; ориентация на обучение говорению и на развитие речевых навыков – 2 ответа. Как показывают приведенные выше ответы, большинство преподавателей видели главную проблему в отсутствии положительного образа России у японцев, в то время как на необходимость развивать речевые навыки указали лишь два человека, на расширение лингафонных уроков – семь. Это наглядно показывает стремление переложить ответственность за результат на третью сторону, в данном случае – на государство, ибо очевидно, что задача улучшения имиджа России в Японии напрямую связана с выбором внешнеполитических приоритетов, но не с методикой преподавания языка и культуры. Количество часов, число студентов в аудитории также важны, но это относится к форме занятий, а не к реальному их содержанию. Разумеется, если внимание по-прежнему будет сосредоточено на усвоении грамматики и чтении текста, как
это было всегда, то ни новые пособия, ни лингафонные кабинеты, ни современные методики окажутся не нужны, однако в этом случае не приходится удивляться и падению интереса студентов, и следующему за ним сокращению притока первокурсников.
Вместе с тем японские русисты всё сильнее осознают недостатки существующей системы преподавания русского языка и считают необходимым поиск и создание новых форм и методов обучения. С этой целью уже в 2000 г. возникла рабочая группа по разработке новых методик, которая в 2010 г. оформилась в Общество по исследованию проблем преподавания русского языка с центром в городе Миноо (префектура Осака). В настоящий момент Общество объединяет свыше 50 преподавателей из разных регионов Японии, издает свой ежегодный бюллетень и несколько раз в год проводит специальные заседания с обсуждением докладов и проведением научных дискуссий.
Крупнейшей национальной организацией преподавателей русского языка является Японская ассоциация русистов, которая в лучшие годы насчитывала в своих рядах около 500 членов, она имеет два крупных региональных отделения в Западной (Кансай) и Восточной (Кан-то) Японии с местными филиалами по всей стране. Членами ассоциации являются как профессиональные преподаватели русского языка и литературы, так и различные представители других гуманитарных специальностей (историки, лингвисты, экономисты и т. д.), работающие в других областях знания, но сохраняющие интерес к проблемам русистики и славистики, а также зарубежные коллеги. Несколько раз в год региональные отделения ассоциации проводят местные научные конференции и презентации отдельных докладов, а осенью (как правило, в октябре) проходит ежегодная Всеяпонская конференция русистов с широким участием как японских, так и иностранных ученых, продолжительностью до 2‒3 дней, с последующим изданием ежегодного сборника материалов конференции.
Одним из важнейших условий правильной организации учебного процесса является наличие учебников и вспомогательной литературы, отвечающих самым различным требованиям и по возможности «идущих в ногу со временем». Правда, здесь очень важно не перегнуть палку, ибо стремление осовременить занятия, разнообразить традиционный набор стандартных примеров и фраз нередко приводит к перенасыщению вновь издаваемых учебников различными видами слэнга, примерами молодежной речи, внесению в учебные тексты каких-то сиюминутных реалий повседневной жизни, которые порой успевают устареть уже в процессе подготовки учебника к печати. Отсутствие единых учебных программ наряду со стремлением отойти от стандартного шаблона приводит к тому, что количество разнообразных учебных пособий по русскому языку на прилавках японских магазинов успешно конкурирует с общим числом преподавателей-русистов. Нормальной считается ситуация, когда студенты какого-либо университета используют на занятиях только и исключительно те учебники, авторами которых являются преподаватели этого же университета. Иногда это бывает оправданно, иногда – нет. К сожалению, стремление стать автором учебника иногда опережает детальную проработку содержания предлагаемых пособий, при этом реальных отличий от работ предшественников бывает не слишком много. В идеале, впрочем, учебников как раз и должно быть много, но при этом разных учебников, рассчитанных на разные уровни подготовки и составленных с учетом японской специфики, когда речь идет о конкретном содержании текстов и упражнений. Наряду с более легкими учебниками для начинающих и продолжающих, которые вполне могут «закрыть проблему» в случае тех университетов, где русский преподается как «второй иностранный», студенты языковых вузов нуждаются также в специальных учебниках культурологической и страноведческой тематики, сопоставляющих сегодняшнюю Россию с современной Японией, жизненные ценности современных русских и современных японцев, знакомящих с менталитетом, повседневной жизнью, особенностями ситуативного общения в обеих странах. К счастью, в настоящее время такие учебники уже создаются и в самой Японии, и во множестве появляются в России. Правда, хотелось бы отметить одно важное обстоятельство. Большинство новых учебников по русскому языку, издаваемых в России в последние годы, ориентированы, как и прежде, на иностранную аудиторию вообще, не делая упор на ту или иную национальную специфику учащихся. Исключение здесь составляют лишь несколько пособий, специально адресованных китайской аудитории, таких как серия пособий «Дорога в Россию» (издательство «Златоуст», Санкт-Петербург). В то же время неоднократно отмечалось, что японские студенты не всегда хорошо воспринимают тексты, героями которых являются представители разных стран, студенты теряются от обилия посторонней информации, не имеющей отношения к русскому языку и России, но прямо связанной с требованиями мультикультурализма. Однако для Японии, население которой было и остается на 98 % моноэтничным, проблема мультикультурализма в западном понимании не является столь актуальной, тем более когда речь идет о русском языке и России – страны с особым этногенезом и достаточно пестрой национальной структурой. Думается, было бы гораздо уместнее вводить в текст учебников в качестве постоянных персонажей не иностранных студентов, изучающих русский язык (араб Али, немец Клаус, американец Джон, француз Жан и т. д.), а представителей народов, населяющих Россию или бывший Советский Союз (украинка Оксана, татарин Ахмет, бурят Дамдин, армянка Гаянэ и пр.). В этом контексте и следует давать учебные диалоги и тексты, одновременно приучая студентов к понятию «многонациональный» и «мультикультурный», но не на мини-модели ООН или карте мира, а на примере страны изучаемого языка.
Материал поступил в редколлегию 13.02.2017
P. E. Podalko
Aoyama Gakuin University , Japan
4-4-25 Shibuya , Shibuya-ku , Tokyo 150-8366 , Japan
RUSSIAN LANGUAGE IN JAPAN: INSIDER’S VIEW.
HISTORICAL AND CULTURAL PROBLEMS СONCERNING STUDYING RUSSIAN LANGUAGE IN JAPAN
This article describes the real situation of teaching and studying Russian language in modern day Japan. After giving a short introduction to the history of teaching Russian language in Japan in the preamble, the author explains the reasons why Japanese scholars and students should be interested in Russian language in the past as well as in modern times. Based on rich personal experience, the article explores different aspects of teaching Russian in Japan, emphasizing the most popular difficulties of that process as well as some local nuances concerning studying foreign language in the Japanese context.