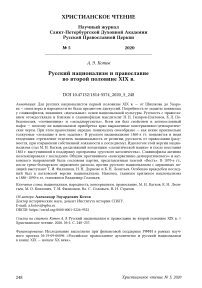Русский национализм и православие во второй половине XIX в
Автор: Котов Александр Эдуардович
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 5 (94), 2020 года.
Бесплатный доступ
Для русских националистов первой половины XIX в. - от Шишкова до Уварова - связь веры и народности не была предметом дискуссий. Потребность ее защиты появилась у славянофилов, искавших «идеальных» основ национальной культуры. Русскость с православием отождествляли и близкие к славянофилам мыслители: Н. П. Гиляров-Платонов, К. П. Победоносцев, «почвенники» и «западнорусисты». Всем им был свойствен и антисословный пафос - поэтому их национализм приобретал ярко выраженные консервативно-демократические черты. При этом православие нередко понималось своеобразно - как некие произвольно толкуемые «лежащие в нем задатки». В русском национализме 1860-х гг. появляется и иная тенденция: стремление отделить национальность от религии, русскость от православия (разумеется, при сохранении собственной лояльности к последнему). Идеологом этой версии национализма стал М. Н. Катков, разделявший концепцию «политической нации» и после восстания 1863 г. выступивший в поддержку программы «русского католичества». Славянофилы активно полемизировали с последним. Общим противником «консервативно-демократического» и катковского направлений была сословная партия, представленная газетой «Весть». В 1870-е гг., после греко-болгарского церковного раскола, против русского национализма с церковных позиций выступают Т. И. Филиппов, Н. Н. Дурново и К. Н. Леонтьев. Особенно враждебен последний был к катковской версии национализма. Наконец, главным критиком национализма в 1880-1890-х гг. становится Владимир Соловьев.
Национализм, народность, консерватизм, православие, м. н. катков, к. н. леонтьев, м. о. коялович, т. и. филиппов, вл. с. соловьев, н. н. страхов
Короткий адрес: https://sciup.org/140250814
IDR: 140250814 | DOI: 10.47132/1814-5574_2020_5_248
Текст научной статьи Русский национализм и православие во второй половине XIX в
Funding: ^e reported study was funded by RFBR, project number 19-09-00096 “Russian Orthodox Clergy and Russian Nationalism in the Late 19th—early 20th Century”.
Изучение истории русского национального движения невозможно рассматривать вне контекста западных теорий национализма, начало активной разработки которых относится к 1960-м, а пик — к 1990-м гг. Э. Смит выделяет три ключевые проблемы, занимающие современных теоретиков: 1) Этическая и философская проблема «роли нации в человеческих отношениях»: «Должны ли мы рассматривать нацию как самоцель, абсолютную ценность, несопоставимую со всеми остальными ценностями?»; 2) Антропологическая и политическая проблема: вопрос о природе нации — этно-культурной, территориальной или формально-юридической; 3) Исторический и социологический вопрос о месте наций в истории человечества: являются ли они порождением объективной исторической закономерности, или «конструктом» индустриальной эпохи [Смит, 2004, 30-31]. Эти же вопросы (иногда чуть иначе формулируемые) волновали и участников полемики о национализме XIX в.
Как для общественных, так и для научных дискуссий о национализме ключевой (и, по всей вероятности, вечной) проблемой остается вопрос об определении этого явления. В пропагандистском значении национализм либо отождествляется с расизмом и ксенофобией, либо делится на «освободительный» и «угнетающий» [Ленин, 1970, 359]. В научном понимании этот термин носит безоценочный, но еще более дискуссионный характер. Классическое определение Э. Геллнера трактует его как «теорию политической законности, которая состоит в том, что этнические границы не должны пересекаться с политическими, и в частности, что этнические границы внутри одного государства не должны отделять правителей от основного населения» [Геллнер, 1991, 24]. Однако очевидная невозможность сведения национализма к этничности и — в то же время — крайне сложное соотношение между «этническими» и «гражданскими» его формами [Смит, 2004, 236–237] заставляет исследователей искать более широкие определения. Так, К. Вердери определяет национализм как «политическое использование символа нации через дискурс и политическую активность, а также как эмоции, которые заставляют людей реагировать на использование этого символа» [Миллер, 2008, 9]. В свою очередь, А. И. Миллер называет националистами «всех, кто участвует в националистическом дискурсе, то есть принимает и стремится так или иначе интерпретировать категории национальных интересов и нации как символические ценности» [Миллер, 2000, 17].
Для русских националистов первой половины XIX в. — от Шишкова до Уварова — связь веры и народности не была предметом дискуссий. Потребность ее защиты появилась у славянофилов — отвечавших на критику П. Я. Чаадаева и искавших «идеальных» основ национальной культуры. Воззрения ранних славянофилов в целом отражал хрестоматийный и вполне шеллингианский тезис А. И. Кошелева: «Вера, одна вера может оживить мертвеющую природу; она одна может собрать обломки и из них создать нечто органическое. <...> Без православия наша народность — дрянь. С православием наша народность имеет мировое значение» [Колюпанов, 1892, 250–251]. Русскость с православием отождествляли не только славянофилы, но и близкие к ним мыслители: Н. П. Гиляров-Платонов, К. П. Победоносцев, «почвенники» и «западно-русисты». Многие из них были выходцами из духовной среды, а окраинные «западнорусские» деятели (М. О. Коялович, К. А. Говорский, И. П. Корнилов) исходили из ситуации, сложившейся на Украине и Белоруссии, где католичество стало знаменем шляхетского польского мятежа. Последнее во многом обостряло и присутствовавший еще в раннем славянофильстве антисословный пафос — поэтому их национализм приобретал ярко выраженные консервативно-демократические черты. Своеобразным было и понимание славянофилами православия — за которое их нередко упрекали в протестантских тенденциях. Не случайно Ю. Ф. Самарин писал в одном из своих писем: «Что касается меня, я предпочитаю гимн образу и лучше понимаю философскую формулу, чем легендарный рассказ, а потому всегда желал Церкви, к которой я принадлежу, не резкого разрыва с прошлым, а спонтанного пробуждения разума, создавшего протестантскую жизнь» [«Я любил Вас любовью брата…», 2015, 241]. Довел эти тенденции до логического конца Н. П. Гиляров-Платонов, утверждавший, что для него важно не столько само православие, сколько «задатки, в нем лежащие», «русский дух, эта народность suis generis, в которой каждый плебей, каждый раб человечества увидит брата» [Возвращение Н. П. Гилярова-Платонова, 2007, 260].
Однако в русском национализме 1860-х гг. появляется и иная тенденция: стремление отделить национальность от религии, русскость от православия (разумеется, при сохранении собственной лояльности к последнему). Идеологом этой версии национализма стал М. Н. Катков, разделявший концепцию «политической нации» и после восстания 1863 г. выступивший в поддержку программы «русского католичества». Перевод национальной части католического (а заодно и еврейского) богослужения на русский язык должен был «разделить католицизм с полонизмом» и, не посягая на принцип религиозной свободы, сделать «русских католиков» и «русских иудеев» лояльными подданными русского государства [Котов, 2017а].
Разумеется, в славянофильских кругах эта мысль не вызвала энтузиазма. Н. Н. Страхов, доказывая необходимость русификации и приводя в качестве примера «прекрасных членов русского общества» обрусевших немцев, утверждал: «Совершенно другое положение немца, сохраняющего среди русских свою национальность. Ему пусто и холодно кругом; отсутствие живых, теплых связей с окружающими людьми дает себя чувствовать и отзывается в тысяче ежедневных случайностей. Пожелать такому немцу обрусеть значит пожелать ему действительно добра». По мнению Страхова, межнациональные столкновения «можно устранить, смягчить и ограничить самыми узкими пределами; но если где нет вражды , если где господствует полная терпимость, там все-таки еще нет любви . Терпимость понятие отрицательное; она устраняет зло , она разрушает те препятствия, которые могут быть встречены добром, но самого добра она все-таки не дает и не содержит. Общество, составленное из самых разнородных людей, из краснокожих и белых, из китайцев и европейцев, из мусульман и христиан и т. д., может при помощи терпимости жить мирно, без взаимной вражды членов; но будет ли это не только наилучшее, но даже просто хорошее общество? Разве для общества ничего больше и не нужно желать, кроме отсутствия вражды? Всякий согласится, что общество тем лучше, чем прочнее в нем внутреннее единство, чем теснее духовная связь членов, чем больше любовного единения между ними» [Страхов, 1864, 249–250].
Исходя из этих предпосылок публицист рассматривал и идею русификации католичества: «Русские католики нам кажутся идеею еще более странною, чем русские немцы. Зачем они? Если их нет, то тем лучше. Если католицизм никогда не был исповедываем или преподаваем на русском языке, то можно только порадоваться отсутствию такого явления. Терпеть такое явление, если бы оно существовало, конечно, было бы должно, но желать или нарочно вызывать его никак не следует. Напротив, мы должны искренно желать, чтобы все, кто говорит по-русски, исповедовали бы и русскую, православную веру» [Страхов, 1864, 250].
Из всех противников катковского подхода наиболее любопытную аргументацию использовал М. О. Коялович. По его мнению, «невероятные вещи об отделении народности от веры» стали возможны в силу ряда особенностей «Московских ведомостей», «не совместимых с западно-русской жизнью». Историк утверждал, что «„Московские ведомости“, кроме политической и гражданской специальности, обладают еще одной специальностью, так сказать, интеллигентною. Интеллигенция у них единственный конек, на котором они ездят в политику и государственность. Народ у них… что такое народ у „Московских ведомостей“? Что-то такое, чего „Московские ведомости“ не знают, и не зная, не желают знать». В отделении религии от народной жизни Коялович усматривал нигилизм, отмечая также, что «теория отделения народности от веры только там может быть свободно узаконяема… где интеллигенция имеет право и привычку узаконять дела, не справляясь с нуждами народа… Наша русская интеллигенция в других отношениях к народу. Она не имеет права узаконять дела для народа» [Виленский вестник, 1866]. Очевидно, катковские издания воспринимались Кояловичем как глашатаи той самой интеллигенции, из которой рекрутировалась, согласно славянофилам, «безнациональная» бюрократия. От последней простонародное православие следовало защищать точно так же, как и от польского панства.
В других вопросах (польском, остзейском и т. д.) славянофилы и «катковцы» выступали скорее единым фронтом, представляя собой единое «русское направление» [Котов, 2019, 6]. Врагом последнего в 1860-е гг. была так называемая «аристократическая (или „немецкая“) партия», представленная прежде всего газетой «Весть» [Ведерников, 2006; Котов, 2017] и отражавшая сословные интересы крупных землевладельцев и влиятельной петербургской бюрократии. Редактор «Вести» В. Д. Скарятин писал: «Хотя я горжусь быть русским и православным; но если бы меня спросили: как вы желаете жить: под диктовку ли остзейского немца, или под диктовку московского славянофила? Грешный человек, я бы скорое помирился с ферулою остзейца, с бутербродами его цивилизации, нежели испытывать радости Домостроя и питаться мыльными пузырями пророков славянофильского Алкорана» [Весть, 1864]. Однако в условиях объединившего националистов и либералов «виленского консенсуса» (т. е. общественного подъема, вызванного деятельностью М. Н. Муравьева по подавлению польского мятежа в западнорусских землях) «Весть» к концу 1860-х гг. закрылась, а большинство защитников дворянства примкнуло к «русскому направлению».
Важной вехой в истории русского национализма стала полемика о греко-болгарском церковном расколе, состоявшемся в 1872 г. Воспринимавшие греческое духовенство как угнетателей болгары требовали автокефалии для своей национальной Церкви — и поэтому были преданы Константинопольским патриархом Анфимом VI анафеме за ересь «филетизма», т. е. принесения церковных интересов в жертву «племенным». Русские власти и общество в целом встали на сторону болгар — тем более, что И. С. Аксаков был прекрасно знаком с первым болгарским экзархом Анфимом, некогда писавшим ему: «Может ли быть что-нибудь выше этой святой человечности, или лучше, этой уже переплавленной русскости, которая так выпукло выдается в вашем доме, в обнаружении братских чувств к единоверующим восточным христианам, и еще больше к томящимся под игом иноплеменным. Да, я высоко ценю эти чувства, и никогда не забуду их» [ОР РГБ. ГАИСIII. Л. 1–1 об.].
Среди немногочисленных противников набиравшего силу «славянобесия» оказались государственный контролер Т. И. Филиппов и покровительствуемые им публицисты — Н. Н. Дурново и К. Н. Леонтьев. По свидетельству С. Ю. Витте, «Тертий Иванович был церковник; он занимался церковными вопросами и вопросами литературными, но литературными определенного оттенка, вопросами чисто мистического направления. Он был человек неглупый, но как государственный контролер и вообще как государственный деятель он был совершенно второстепенным. Т. И. Филиппов, собственно, не занимался теми делами, которыми он должен был заниматься, т. е. контролем над всеми государственными, экономическими и хозяйственными функциями. Перевели его в Государственный контроль потому, что он в своей деятельности проявлял русское национальное направление. Хотя нужно сказать, что Т. И. Филиппов понимал русское направление в гораздо более широком смысле, нежели это понимается нашими националистами-проходимцами. Тертий Иванович, конечно, был по своим талантам, способностям и образованию гораздо ниже Победоносцева; они друг друга не любили и расходились во всем. Главное их несогласие заключалось в том, что Т. И. Филиппов признавал главой Православной Церкви Константинопольского патриарха, считал, что все Православные Церкви, за исключением российской (номинально даже и Российская Церковь) должны почитать главой своим патриарха Константинопольского; Победоносцев же допускал самостоятельность Болгарской Церкви. Вот из этого вопроса… у них главным образом и была страшная вражда. Т. И. Филиппов относился поэтому к К. П. Победоносцеву довольно злобно, а Победоносцев относился к Филиппову довольно презрительно» [Витте, 1960, 307].
Оговариваясь, что «оба враждующих народа нам равно дороги и близки», Филиппов последовательно отдавал предпочтение грекам: «Не принимая на себя защиты тех сторон в характере греческого народа, от которых нам было бы приятно видеть его свободным, мы все же полагаем, что при объяснении сложившегося у турецких христиан порядка дел, ссылаться исключительно на греческие захваты по малой мере несогласно с требованиями исторической точки зрения». Заслуги греков в деле мировой культуры естественно ставят их во главе восточных христиан. Ненависть к ним со стороны славян «объясняется прежде всего особою крепостию греческой народности, которая одна только и могла выдержать вековой напор варварского насилия и среди огненных искушений отстоять себя и в то же время соблюсти™ целость и непорочность вверенного ее преимущественному хранению исповедания» [Филиппов, 1882, 11–17]. В характерном для него витиевато-торжественном тоне Т. И. Филиппов провозглашал: «Мы отвергаем и осуждаем племенное деление, т. е. племенные различия, народные распри, народные рвения и разногласия в христианской Церкви, как противное евангельскому учению и священным законам блаженных отцов наших» [Филиппов, 1882, 186].
Единомышленник Т. И. Филиппова, редактор газеты «Восток» Н. Н. Дурново утверждал: «Племенное родство, на котором наши западные славянофилы хотели бы основать большую прочность, нежели на религиозном, оказалось несбыточным. В то время как религия связывает с Россией единоверные ей народы, племенное родство при разности верований не связывает, а разъединяет между собой народы и делает их не только друг другу чуждыми, но и враждебными» [Дурново, 1890, 130].
Выходившее в 1879-1886гг. издание ставило своей целью «разъяснение текущих вопросов, вызванных политическими и религиозными событиями на Востоке, среди родственных нам по вере и крови народов», установление «прямого обмена мыслей между греческой, сербской, болгарской, румынской и русской публицистикой по предметам общего интереса», чтобы в конечном итоге «примирить между собой различные народности Балканского полуострова путем единоверия, на котором Россия основывала свою восточную политику во все прежние времена» [Восток, 1879].
Сочувствовавший грекам Н. Н. Дурново неоднократно повторял, что панслависты, поддерживая болгар, опираются исключительно на «гнусные и лживые доносы и рассказы и рассказы про греческую иерархию» [Дурново, 1899, 3]. По его мнению, Н. П. Игнатьев, «мало знакомый с церковною и политической историей греков, сербов и болгар, а еще более с их этнографическими границами, поддался влиянию болгарских шовинистов и задумал создать Великую Болгарию… мечтая впоследствии стать во главе болгарского народа как их король» [Дурново, 1899, 127].
В славянофильских кругах программа «Востока» вызывала негативную реакцию. Ознакомившись с изданием в феврале 1879 г., И. С. Аксаков писал Н. П. Гилярову-Платонову: «Я… возмущен „Востоком“ до глубины души». Публицистику Н. Н. Дурново славянофил называл «бесталантливым лепетом». «Разве возможно освобожденный русской кровью болгарский народ называть неправославным?.. И еще смеет эта газета объявлять, что ее задача примирение всех в православном единстве! Ее задача — раздувать вражду, — поддерживать фанариотские притязания… Чуждый Церкви элемент племенной внесен греками, стремившимися огречить болгар, притеснить их народность. Болгаре только защищались, ограждая себя… Если бы Англии понадобилось самое действенное средство для того, чтобы раздувать вражду между славянскими племенами, — никто лучше Дурново не послужил бы такой цели… Истинная мерзость эта газета „Восток“!» [И. С. Аксаков в его письмах, 1896, 283].
Именно в «Востоке» в 1879 г. были опубликованы «Письма отшельника» К. Н. Леонтьева — статья, написанная в форме писем к редактору газеты и посвященная греко-болгарскому церковному вопросу. Необходимость поддержки «вселенского» греческого патриархата философ отстаивал и в других своих работах. Она вытекала для Леонтьева из его твердого убеждения в противоположности двух начал: «национализма» и «национальности» [Леонтьев, 2009c, 21, 27]. Вслед за Дурново и Филипповым Леонтьев считал болгар, добивавшихся церковной независимости от Константинопольского патриархата, опасными еретиками-«филетистами». Симпатии русского общества единокровным славянам он клеймил чеканными формулировками: «…все славяне, именно в этом, столь дорогом для меня культурно-оригинальном смысле, суть для нас, русских, не что иное, как неизбежное политическое зло, ибо народы эти до сих пор в лице „интеллигенции*1 своей ничего, кроме пошлой и обыкновенной современной буржуазии, миру не дают» [Леонтьев, 2005a, 268]. Дипломатическая служба на Востоке убедила писателя: «Можно желать добра славянам, можно даже помогать им искренно, когда их кто-нибудь теснит, но считать их всегда и во всем жертвами, или невинными, или ни при каких условиях не могущими нам, русским, вредить, — было бы слишком наивным…» [Леонтьев, 2005b, 274].
Катковская модель светского «бюрократического национализма» вызывала у Леонтьева с Филипповым максимальное отторжение — т. к. способствовала упрощению национального организма. Именно о ней Леонтьев писал Розанову в 1891 г.: «Поймите, прошу Вас, разницу: русское царство, населенное православными немцами, православными поляками и даже отчасти православными евреями, при численном преобладании православных русских, и русское царство, состоявшее, сверх коренных русских, из множества обруселых протестантов, обруселых католиков, обруселых татар и евреев. Первое — созидание, второе — разрушение» [В. В. Розанов и К. Н. Леонтьев, 2014, 253]. Заняв своеобразную промежуточную позицию в споре между В. С. Соловьевым и защитниками Н. Я. Данилевского, Леонтьев подчеркивал: «Ничего культурно-национального в государственном национализме — нет в наше время! <…> Нынешний (государственный) национализм ничуть не национален по су ществу своему, — что он контрафакция, имитация, подделка, апплике, яд; — а не лекарство и не пища здоровая» [Леонтьев, 2009b, 290–292].
Чуть менее враждебным было леонтьевское восприятие славянофильства, которое он критиковал за либеральные тенденции, но ценил за стремление к самобытности и своеобразию, а в концептуальном плане опирался, как известно, на теорию близкого к славянофильству Н. Я. Данилевского. В противостоянии катковской и славянофильской версий национализма более предпочтительным ему казался последний: «Катков, не отказываясь, конечно, и от православия, — имел главным образом в виду руссизм . — Аксаков же, напротив того, старался напомнить о том, что русский народ таких православных немцев, как Розены (например, и другие, которых фамилий я не помню) — считает своими, а русских католиков — подобных Гагарину и Мартынову — он никак своими не сочтет… Аксаков был прав; избави нас Боже от множества обруселых католиков и обруселых евреев; — дай нам Господи побольше православных ляхов и даже православных израильтян!. .» [Леонтьев, 2009c, 37–39]
В отличие от славянофилов, Леонтьев не отождествлял православие с русскостью — но ставил его над ней. Это не избавляло его от известной инструментализации религии, которая теперь превращалась в «служанку» уже не «народности», но «эстетики» и «цветущей сложности». Тем не менее, в системе леонтьевского гептасти-лизма находилось место и национальному началу: «идее православно-культурного русизма», которая «действительно оригинальна, высока, строга и государственна» [Леонтьев, 2009a, 72]. Выстроенному по европейской модели упрощающему национализму Леонтьев противопоставлял «национализм культурный , обособляющий нас от общезападного стиля, избавляющий Россию от гибельной общеевропейской солидарности» [Леонтьев, 2009c].
Последние два десятилетия XIX в. стали временем своеобразного кризиса русского национализма. Фактически возведенный при Александре III в ранг государственной идеологии, он в этом качестве всё больше отталкивает от себя широкие круги либерально мыслящей интеллигенции. Славянофильская версия национализма во многом утратила свои позиции после Берлинского конгресса и ухудшения отношений с Сербией и Болгарией [Котов, 2012].
Главным критиком «русского направления» с декларируемых христианских позиций стал В. С. Соловьев. В 1883 г. на страницах аксаковской «Руси» вышла статья В. С. Соловьева «Нравственность и политика», положившая начало многолетней и многосторонней полемике. С позиций своеобразно понимаемого «христианского универсализма» философ обрушился с резкой критикой на концепцию «национального эгоизма»: «Наша внеевропейская или противоевропейская преднамеренная и искусственная самобытность всегда была и есть лишь пустая претензия; отречься от этой претензии есть для нас первое и необходимое условие всякого успеха. <…> Одно только мы знаем наверное: если Россия не исполнит своего нравственного долга, если она не отречется от национального эгоизма, если она не откажется от права силы и не поверит в силу права, если она не возжелает искренно и крепко духовной свободы и истины, она никогда не может иметь прочного успеха ни в каких делах своих, ни внешних, ни внутренних» [Соловьев, 2018, 6–7]. Объектами критики Соловьева стали и «старое» славянофильство, и концепция культурно-исторических типов Н. Я. Данилевского, и «новые», якобы торжествовавшие при Александре III, националисты катковского круга. Для «русского направления» эта литературная битва над прахом Данилевского оказалась одновременно и проверкой на прочность — не менее трудной, чем Берлинский конгресс и последовавшие за ним события на Балканах.
В полемике с «новым» и одновременно «архаическим» русским национализмом Соловьев выступил не как либерал, но как пророк христианской «всемирной монархии», считающий себя продолжателем Данте и Тютчева [Тесля, 2018, IX]. Это, разумеется, не мешало ему отстаивать ценности, которые в России принято называть либеральными: от свободы вероисповедания до культурного и политического западничества. Впрочем, в наше время тезис о превосходстве западной культуры и цивилизации всё больше становится уделом консерваторов — тогда как современным западным левым ближе скорее провозглашенный Данилевским отказ от европоцентризма.
Вдохновлявший Соловьева своеобразный консервативный глобализм, при всех своих своеобразных чертах, во многом продолжал традиции «немецкой партии». Наиболее жесткой была его критика взглядов со стороны «катковцев» — далеко не всегда вдававшихся в собственно церковно-богословскую проблематику. «С грустью видишь, как космополитические бредни завели одного из наших самых даровитых соотечественников в сторону, противную русскому общественному чувству, так и основным началам христианской общины. Во имя „русской идеи“, по определению ее будто бы Божественным Промыслом автор требует от России — от ее правительства и народа — ни более, ни менее, как полного отречения от своей самобытности. <…> Только за границей и вполне самостоятельно мог выступить он с открытою ненавистью к историческим началам русской государственности, с клеветою на русскую национальную Церковь, на правительство, на народ», — писали в 1887 г. «Московские ведомости», отмечая, что «служение истине не есть служение мирским выгодам других» — в данном случае католиков [Современная летопись, 1887, 335–337].
Куда более болезненно отреагировали на критику Соловьева славянофилы — первоначально воспринявшие его деятельность с надеждой: И. С. Аксаков помещал в своей «Руси» его статьи, а генерал А. А. Киреев сообщал Каткову, что «в лице Соловьева выступил на сцену идеализм, выступил смело, честно, открыто» [ОР РГБ. Ф. 120. Л. 11]. Однако в обличении Соловьевым «национального эгоизма» И. С. Аксаков увидел проявление эгоизма личного, стремление сбросить с себя «узы живой любви к братьям по крови и по духу» наиболее комфортным и «дешевым» способом: «Стоит только обозвать любовь к своему народу и народности „национальным эгоизмом“ — и прав! От „эгоизма“ не только позволительно, но и обязательно отрешиться» [Аксаков, 2018, 532]. При этом Аксаков подчеркивал, что национальное начало вовсе не исключает в его понимании общечеловеческого: «Само собой разумеется, что высшее призвание народа христианского — водворение на земле правды Божьей. Но эта правда, вечная и безусловная сама в себе, допускает в своем историческом на земле воплощении и вовсе не в виде украшений, а в виде закона ею же установленного, во всей полноте живое разнообразие конкретных своих частных проявлений сообразно с особенностями времени и племени, но в то же время пребывает общей и единой для всех времен и для всех народов, сочетая разнообразие с единством и единство с разнообразием, свободу личную и племенную с пленением всех в любви и вере» [Аксаков, 2018, 559–560].
Д. Ф. Самарин указывал на недобросовестность соловьевской критики славянофильства, указывая на приписывание им славянофилам культа «русского платья и бороды» [Самарин, 2018, 587] и недобросовестную трактовку свидетельства Герцена о Киреевском [Самарин, 2018, 597]. Отвергал Самарин и обвинения Соловьевым славянофилов в культе Ивана Грозного — доказывая, что культ этого самодержца был порожден именно западнической историографией [Самарин, 2018, 617–639].
Наконец, Н. Н. Страхов указывал на то, что посредством национализма «Европа ищет для себя самого естественного порядка и все тверже и спокойнее укладывается в свои естественные разделы; не будь великого интернационального зла, социализма, начало народности, исповедываемое Европой, обещало бы ей успокоение» [Страхов, 2018, 703]. Таким образом, «несравненно основательнее можно бы назвать начало единства человечества началом насилия; насилие же всегда ведет к ненависти, к возмущению и к неугасимой вражде расторгающихся частей» [Страхов, 2018, 703]. Философ-почвенник подчеркивал, что «национализм нашего века вовсе не похож на национализм древнего мира. У язычников, можно сказать, всякий народ хотел завладеть всеми другими народами; у христиан явилось правило, что никакой народ не должен владеть другим народом. Современное учение о народности, очевидно, примыкает к учению любви и свободы» [Страхов, 2018, 704].
В целом, несмотря на усиление светских тенденций, русский национализм XIX в. оставался в своей основе христианским. Даже М. Н. Катков, первым отделивший православие от народности, не отрекался от лояльности к Православной Церкви. Постепенное размывание этой христианской основы в славянофильстве, особенно в позднем, в целом соответствовало духу времени: уменьшению роли Церкви в политической жизни. Но по-настоящему нецерковный национализм появится в России лишь в XX в.
Список литературы Русский национализм и православие во второй половине XIX в
- "Я любил Вас любовью брата…" Переписка Ю. Ф. Самарина и баронессы Э. Ф. Раден (1861-1876). СПб.: Владимир Даль, 2015. 447 c.
- Аксаков И. С. Против национального самоотречения и пантеистических тенденций, высказавшихся в статьях В. С. Соловьева // Соловьев В. С. Национальный вопрос в России. М., 2018. С. 531-581.
- В. В. Розанов и К. Н. Леонтьев: Материалы неизданной книги "Литературные изгнанники", переписка, неопубликованные тексты, статьи о К. Н. Леонтьеве, комментарии / Сост. Е. В. Ивановой. СПб., 2014. 1182 c.
- Весть. 1864. № 39. 26 сентября.
- Виленский вестник. 1866. № 146. 9 июля.
- Витте С. Ю. Воспоминания. М.: Издательство социально-экономической литературы, 1960. Т. 1. 556 с.
- Возвращение Н. П. Гилярова-Платонова. Коломна: Коломенский государственный педагогический институт, 2007. 448 с.
- Восток. 1879. № 1.
- Дурново Н. Н. Болгарская пропаганда в Македонии и македонский вопрос. М.: Типография И. А. Баландина, 1899. 18 с.
- Дурново Н. Н. Государства и народы Балканского полуострова, их прошедшее, настоящее и будущее и Болгарская кривда. М.: Типография Э. Лисснера и Ю. Романа, 1890. 164 с.
- Леонтьев К. Н. Дополнения к двум статьям о панславизме (1884) // Леонтьев К. Н. Полное собрание сочинений и писем: в 12 т. СПб., 2005. Т. 7(1). С. 268-271.
- Леонтьев К. Н. Еще о греко-болгарской распре // Леонтьев К. Н. Полное собрание сочинений и писем: в 12 т. СПб., 2005. Т. 7(1). С. 272-297.
- Леонтьев К. Н. Кто правее, П. Е. Астафьев или я? // Леонтьев К. Н. Полное собрание сочинений и писем: в 12 т. СПб., 2009. Т. 8(2). С. 261-297.
- Леонтьев К. Н. Кто правее? // Леонтьев К. Н. Полное собрание сочинений и писем: в 12 т. СПб., 2009. Т. 8(2). С. 57-179.
- Леонтьев К. Н. Культурный идеал и племенная политика // Леонтьев К. Н. Полное собрание сочинений и писем: в 12 т. СПб., 2009. Т. 8(2). С. 21-56.
- ОР РГБ (Отдел рукописей Российской государственной библиотеки). Ф. 120. К. 23.
- ОР РГБ (Отдел рукописей Российской государственной библиотеки). Ф. ГАИСIII. К. 1. Ед. хр. 50.
- Самарин Д. Ф. Поборник вселенской правды // Соловьев В. С. Национальный вопрос в России. М., 2018. С. 582-667.
- Современная летопись // Русский вестник. 1887. № 10. С. 35-337.
- Соловьев В. С. Предисловие ко второму изданию // Соловьев В. С. Национальный вопрос в России. М., 2018. С. 3-7.
- Страхов Н. Н. Заметки летописца // Эпоха. 1864. № 5. 249-250.
- Страхов Н. Н. Наша культура и всемирное единство // Соловьев В. С. Национальный вопрос в России. М., 2018. С. 652-755.
- Филиппов Т. И. Современные церковные вопросы. СПб.: Общественная польза, 1882. 463 с.
- Ведерников В. В. Национальный вопрос в зеркале консервативной публицистики. Газета "Весть" // Исторические записки. 2006. № 9. С. 137-169.
- Геллнер Э. Нации и национализм. М.: Прогресс, 1991. 320 с.
- И. Аксаков в его письмах. СПб.: Императорская Публичная библиотека, 1896. Т. 4. 337 с.
- Колюпанов Н. П. Биография А. И. Кошелева. М.: Типография т-ва И. Н. Кушнеров и Ко, 1892. Т. 2. 436 с.
- Котов А. Э. "Народность" и "сословность": два полюса русского консерватизма // Христианское чтение. 2017. № 2. С. 288-306.
- Котов А. Э. Русский политический предмодерн: забытые "консерваторы" второй половины XIX века. СПб.: Владимир Даль, 2019. 436 с.
- Котов А. Э. "Русское латинство" 1860-х гг. как элемент идеологии бюрократического национализма // Новое литературное обозрение. 2017. № 2. С. 122-136.
- Котов А. Э. "Нет никакой возможности узнать, чего желает Россия": славянофильская печать и Сербия в 1880-е годы // Социологическое обозрение. 2012. Т. 11. № 2. С. 27-40.
- Ленин В. И. К вопросу о национальностях или об "автономизации" // Ленин В. И. Полное собрание сочинений. М., 1970. Т. 45. С. 356-368.
- Миллер А. И. "Украинский вопрос" в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина XIX в.). СПб.: Алетейя, 2000. 260 с.
- Миллер А. И. Дебаты о нации в современной России // Политическая наука. 2008. № 1. С. 7-30.
- Смит Э. Д. Национализм и модернизм: Критический обзор современных теорий нации и национализма. М.: Праксис, 2004. 464 с.
- Тесля А. А. Вл. Соловьев в спорах о национализме и национальном вопросе // Соловьев В. С. Национальный вопрос в России. М., 2018. С. I-XXXVI.