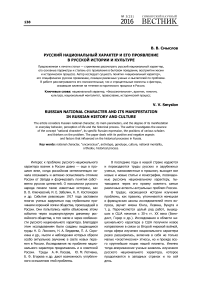Русский национальный характер и его проявление в русской истории и культуре
Автор: Смыслов Виктор Владимирович
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Философия и культурология
Статья в выпуске: 3 (25), 2016 года.
Бесплатный доступ
Предложенная к печати статья - стремление рассмотреть русский национальный характтер, его основные параметры и степень его проявления в бытовом поведении, восприятии жизни и историческом процессе. Автор исследует сущность понятия «национальный характер», его специфически русское проявление, позиции различных ученых и мыслителей по проблеме. В работе рассматриваются его положительные, так и отрицательные моменты и факторы, оказавшие влияние на течение исторического процесса в России.
Национальный характер, "бессознательное", архетип, генотип, культура, национальный менталитет, православие, исторический процесс
Короткий адрес: https://sciup.org/14114371
IDR: 14114371
Текст научной статьи Русский национальный характер и его проявление в русской истории и культуре
Интерес к проблеме русского национального характера возник в России давно — еще в прошлом веке, когда российская интеллигенция начала осознавать и активно осмысливать отличие России от Запада и формировать понятия собственно русских ценностей. О психологии русского народа писали такие известные историки, как В. О. Ключевский, И. Е. Забелин, Н. Л. Костомаров и др. События революции 1917 года заставили многих ученых задуматься над глубинными причинами коренной ломки общества, происшедшей в России. Они попытались найти объяснение этому событию через социокультурную динамику российского общества, в том числе и через особенности русского национального характера. Благодаря этим исследованиям были созданы выдающиеся труды Н. О. Лосского, Н. А. Бердяева, П. А. Сорокина и др., мысли и наблюдения которых обрели особо актуальное звучание в свете новых перемен в России. Исследования по проблеме национального характера продолжались и в советской России. Труды А. Ф. Лосева, Ю. М. Лотмана, Б. Ф. Егорова и др. дают возможность углубленного осмысления этой проблемы.
В последние годы в нашей стране издаются и переиздаются труды русских и зарубежных ученых, малоизвестные в прошлом, выходят все новые и новые статьи и монографии, посвященные русскому национальному характеру, пытающиеся через его призму осветить самые различные аспекты актуальных проблем России.
В трудах, касающихся истории изучения проблемы, как правило, упоминаются немецкая и французская школы исследователей этого вопроса, звучат имена Юнга, Левина, Вундта и т. д. Перечисляется целый ряд работ, вышедших в США начиная с 30-х гг. ХХ века (Бенедикт, Горер и др.). Исследования в области национального характера в США получили новое направление в связи со Второй мировой войной, когда сфера изучения национального характера резко расширилась, включив в себя не только малые «экзотические» этносы, но и прежде всего крупнейшие нации нашей планеты. Именно тогда американские ученые занялись изучением русского национального характера, которое продолжается в западных странах и по сей день.
Что такое национальный характер? Ведь сколько индивидуальностей, столько и характеров. В России «жители Севера отличаются от жителей Юга. Архангельский помор и терский казак, подмосковный крестьянин и сибирский охотник — весьма непохожие и по облику, и по характеру люди», — указывает Б. Ф. Егоров [3, с. 51]. И тем не менее существование национального характера в наши дни никто не отвергает. При первом же контакте с представителями другой нации бросаются в глаза различия в психологическом складе, поведении, реакции, проявлении эмоций и т. п.
Таким образом, на бытовом уровне в понятие национального характера вкладываются наиболее распространенные усредненные черты той или иной нации. В теоретическом же плане в это понятие вкладывается более глубокий смысл.
В настоящее время представление о национальном характере чаще всего базируется на идеях К. Юнга относительно существования сверхличного, или коллективного бессознательного [13]. Согласно К. Юнгу, мы через наше бессознательное причастны к исторической коллективной психике. Многие коллективные впечатления, эмоциональные переживания со временем уходят, вытесняются из области сознательного и переходят в область бессознательного. Коллективное бессознательное представляет из себя оставляемый опытом осадок и вместе с тем есть образ мира, который сформировался уже в незапамятные времена [14]. На основе этой теории китайские исследователи считают, что «национальный характер — это коллективная личность нации, совокупность ее психологических характеристик и особенностей поведения, выработавшихся в определенных исторических условиях» [12, c. 476].
Кристаллизация национального характера происходит на основе архетипов, т. е. основных черт, выделенных в процессе накопления однородного опыта и соответствующих также определенным психофизиологическим характеристикам нации. Отдельная личность в процессе своего становления (индивидуализации) интегрирует содержание (архетипы) коллективного бессознательного и тем самым впитывает в себя черты национального характера. Так как отличительные черты культурных архетипов — это устойчивость и неосознанность, которые способствуют формированию и сохранению культурного генотипа того или иного народа. Этими же признаками обладает и национальный характер, сформировавшийся на их основе, хотя в дальнем историческом плане правомерно говорить о трансформации национального характера или об ослаблении-укреплении тех или иных его черт в процессе исторического развития.
Развивая культурологическое содержание понятия, российские ученые пишут о том, что «национальный характер — это генотип плюс культура. Генотип — то, что каждый из нас получает от природы, через гены, а культура — то, к чему мы приобщаемся, начиная от рождения» [7, с. 390]. Природные этнопсихологические черты (психологические характеристики нации) обладают способностью передаваться из поколения в поколение благодаря механизму генетики, а особенности поведения людей всегда отвечают стереотипам той или иной культуры и вырабатываются в процессе социализации, начиная от рождения. Таким образом, следует принять за исходное положение то, что «национальный характер — это генотип плюс культура». Это наиболее емкая формулировка понятия, которая интересна еще и потому, что здесь понятие национального характера оказывается напрямую связанным с культурой того или иного народа, образуя ее неотъемлемую часть.
Исследование проблемы национального генотипа, генетического механизма передачи национальных черт характера является очень важным с точки зрения культурологии как науки. Ее изучение важно не само по себе, а именно в увязке с изучением русской истории и русской культуры.
В связи с этим очень большое значение приобретает проблема выявления содержания и основных черт национального характера. Русский национальный характер специфичен и многообразен. Исследователи определяют его содержание по-разному. Многие отмечают такие его черты, как широту и открытость натуры, смелость, силу воли, доброту, коллективизм (или, как сейчас любят говорить, соборность), склонность к бурным эмоциональным переживаниям. Наряду с этим в русском характере присутствуют консервативность и иррационализм, преклонение перед силой, несдержанность и любовь к крайностям. На наш взгляд, в этом большом списке, который можно расширять и дальше, можно выделить некоторые основополагающие черты, из которых проистекают другие качества характера. Так, иррационализм, являющийся одним из ярких отличий русской натуры в противовес рационально-прагматической основе Западной Европы, порождает непредсказуемость поведения, преобладание эмоций над продуманным интересом и является фундаментом для устойчивого существования осознанного или неосознанного фатализма, склонности к мистике и утопическим иллюзиям. В пассивности характера коренятся такие качества, как терпеливость, лень, мечтательность, а его полярность проявляется в максимализме, стремлении к крайностям, резких поворотах эмоций и настроения.
Доказательства наличия этих черт можно найти как в поведении наших современников, так и в характерах и поведении различных исторических деятелей, как в литературных образах, так и в русской мифологии, фразеологии, афористике и т. п. Можно привести некоторые примеры.
Наиболее яркой чертой русского национального характера является коллективизм в бытовом поведении.
Коллективизм русского народа проявляется не только в менталитете, в идее соборности, но и на бытовом поведенческом уровне.
В бытовом поведении русских людей многие европейцы и американцы подчеркивают непривычные для них проявления коллективизма. Они с удивлением рассказывают о том, что, пригласив в гости молодого человека (или девушку) и ожидая встречи наедине, надо быть готовым к тому, что в дом может прийти целая компания. В ответ на приглашение сходить вместе в кино россиянин может сказать: «А можно я позову еще своего друга? Его этот фильм тоже интересует» [15]. На Западе, где общение совершается по схеме «личность + личность» и все приглашения ориентированы индивидуально, такое пристрастие к групповым действиям выглядит очень специфично. Традиции коллективизма в России проявляются и в поведении в чужеродной среде. Попав в незнакомую обстановку, за границу, русские люди предпочитают держаться группами, хотя бы по два-три человека, а американцы, нисколько не задумываясь, начинают действовать индивидуально: например, садятся на велосипед и в одиночку едут кататься по улицам незнакомого города.
Масштабы российского коллективизма значительно шире и охватывают принципы общения с незнакомыми людьми. Всякий, кто бывал в нашей стране, замечал, что на улице или в общественных местах незнакомые люди свободно вступают в коммуникацию, подсаживаются друг к другу в ресторанах, вступают в застольные беседы и т. п. Нередко со стороны чужих людей, особенно пожилого возраста, можно услышать советы, оценки, замечания, причем в категорической, а то и грубой форме: «Что же это вы, мамаша, за своим ребенком не смотрите? Вон он у вас куда полез — сейчас свалится!», «Что это вы девочку так легко одеваете — простудится!» «Не размахивайте сумкой, девушка, а то кого-нибудь заденете». У русских людей не так остро ощущается разница между «свой — чужой» или «свое — чужое». Они не стесняются, если надо, обратиться к первому встречному и спросить, нет ли лишней сигаретки или талончика на автобус, и чаще всего находят отклик на свою просьбу. В поездах русские люди охотно делятся захваченной с собой едой, предлагая ее соседям по купе. Женщины, живущие на одной площадке, приготовив что-нибудь вкусное, также с удовольствием угощают соседок.
Привычка к жизни в коллективах сказывается и на поведении людей в толпе. Так, европейские наблюдатели отмечают, что в отличие от носителей западной культуры физические контакты в толпе не смущают русских людей — они толкаются, напирают, двигают локтями и т. п. В этом плане они, несомненно, сближаются с китайцами, которые поступают так же, в то время как европейцы даже в этой ситуации пытаются сохранять дистанцию между собой и другими и по мере возможности избегают непосредственного физического взаимодействия.
Замечено, что в России допустима небольшая дистанция между собеседниками, особенно в случае контакта между мужчиной и женщиной. Широко распространены различные формы прикосновений к собеседнику: можно погладить его по руке, обнять за плечо, привлечь к себе, толкнуть в грудь (между мужчинами), взять за пуговицу и т. п. Всем известен также русский обычай целоваться и обниматься при встрече и прощании, это воспринимается как выражение дружеской симпатии и расположения, узаконенное обычаем и не связанное ни с какими интимными ситуациями.
Одним из важнейших качеств русского национального характера является доброта. Н. О. Лосский считает, что она принадлежит «к числу первичных, основных свойств русского народа» [9, с. 263—264]. В патриархальной, деревенской культуре доброта считалась само собой разумеющейся. В трудную минуту человек всегда мог рассчитывать на помощь, на доброту других. Недаром «помогите, люди добрые» стало устойчивым речевым выражением. Доброта выражалась и в радушии к людям, и в сострадательности, в сочувствии к тем, кто попал в беду. На этой основе выработалось особое отношение к «несчастненьким», к которым причислялись все каторжники и заключенные, независимо от того, что отягощало их душу. Когда каторжники проходили по этапу через города и села, люди сопровождали их сочувственными возгласами, подавали хлеб и еду.
Доброта проявляется и в отходчивости, в необидчивости, в том, что россияне не помнят зла. В своих наивысших проявлениях она выливается во всепрощение, представленное у Ф. М. Достоевского в образах князя Мышкина и Сонечки Мармеладовой.
Одним из самых отрицательных качеств национального менталитета можно назвать лень.
«Русская лень», о которой, не стесняясь, говорят сами русские, запечатлена в различных народных поговорках: «Лень-матушка прежде нас родилась», «Кто долго спит, тому Бог простит», «Работа не волк, в лес не убежит» и т. п. Еще большей яркостью обладают фольклорные образы, в частности, всем известный Емеля из сказки, который не сходит со своей печи и мечтает о том, чтобы все делалось «по щучьему велению, по моему хотению». А созданный И. А. Гончаровым образ Обломова, став нарицательным, дал название целому явлению «обломовщины».
Эмоциональность и импульсивность русского характера — это те черты, которые показывают внешнее проявление чувств и эмоций. У русских людей эмоции бьют через край, резко сменяют одна другую, принимая ярко выраженные или даже аффективные формы. Человек отдается своим порывам, не думая о последствиях, о впечатлении, которое он может произвести на окружающих, но все делается очень искренне, от души. Об этих особенностях русского национального поведения очень ярко сказано у А. К. Толстого:
Коль грозить, так не на шутку,
Коль ругнуть, так сгоряча,
Коль рубнуть, так уж сплеча!
Коли спорить, так уж смело,
Коль карать, так уж за дело,
Коль простить, так всей душой,
Коли пир, так пир горой!
Эмоциональность проявляется не только в действиях, но и в выражении лица, интонации голоса, а также в ярко выраженной мимике и в широком употреблении различного рода жестов, подчеркивающих эмоции (люди разводят руками, пожимают плечами, играют бровями, стучат кулаком в грудь, по столу и т. п.). Распространенность языка жестов привела, в частности, к образованию большого числа фразеологизмов на этой основе. Всем известны такие фразеологизмы, как «махнуть рукой», «гладить по головке», «чесать в затылке», «ударить по рукам», «и бровью не ведет» и т. п.
С эмоциональностью характера связано и широкое употребление в речевом общении различных обращений или оценочных эпитетов (если речь идет о третьем лице). Дружеское отношение, симпатии выражаются с помощью таких обращений, как «дорогой мой», «мой хороший», «дружок», «малыш», «лапушка», «голубчик», «девочка моя», «дурочка», «глупенький». Если человек вызывает раздражение, возмущение, негодование, то о нем говорят «безобразник», «свинья», «негодяй», «мерзавец этакий», «нахал», «гад», «сволочь» или что-нибудь еще покрепче. Причем все это может высказываться прямо в лицо человеку и необязательно несет оценочную характеристику, а просто является выражением сиюминутных эмоций.
В целом коммуникативное поведение русского человека находится под большим влиянием собственных эмоций и настроений. Если русский человек говорит раздраженным тоном, громко выражает возмущение чем-либо или отчаянно возражает, это далеко не всегда означает, что он недоволен собеседником, не уважает его или собирается рвать с ним отношения, — чаще всего это способ выражения определенного настроения, собственного душевного состояния, может быть, даже не связанного с предметом разговора. Замечено, что один из способов избежать конфронтации с россиянами в случае расхождения мнений — это дать им возможность выговориться и излить свои чувства. Выговариваясь перед людьми, человек снимает свое возмущение, раздражение или другие негативные эмоции и смягчается. В итоге выясняется, что расхождения не так уж и велики и вполне можно договориться.
Таким образом, эмоциональная окрашенность поведения россиян очень часто передает импульсивное состояние отправителя речи без ориентации на адресата.
Доказательством бинарности национального характера является стремление к крайностям.
Бердяев Н. А. по этому поводу писал: «Для русских характерно совмещение и сочетание антиномических, полярно противоположных начал....Русский народ с одинаковым основанием можно характеризовать как народ государственно-деспотический и анархически-свободо-любивый, как народ, склонный к национализму и национальному самомнению, и народ универсального духа, более всех способный к всечело-вечности, жестокий и необычайно человечный, склонный причинять страдания и до болезненности сострадательный» [1, с. 255].
Все вышеперечисленные особенности русской натуры образовались не просто так, сами по себе, — становление русского национального характера проходило под воздействием многообразных географических и исторических факторов, определивших развитие всей русской культуры в целом.
Прежде всего таким мощным фактором явились ландшафт и суровая природа ВосточноЕвропейской равнины. Бескрайние просторы, необъятные массивы лесов, бесконечная даль равнины заложили в русской душе любовь к широте, простору, масштабности, тягу к воле и трепетное отношение к природе, к ее красоте. Капризность и непредсказуемость природы порождали страх, требовали физической силы и мужества для борьбы с ней (отсюда, как нам думается, и берет начало преклонение перед силой) и в то же время воспитывали бесконечное терпение и фатализм.
Ключевский В. О. высказал глубокие и интересные наблюдения о связи между условиями среды, характером труда и психологией русского человека, указав, например, что своенравие климата и почвы заставляет русских противопоставлять капризу природы каприз собственной отваги: «Эта наклонность дразнить счастье, играть в удачу и есть великорусский авось » [5, с. 313]. «Все авось да небось», — так говорят о себе сами русские, отвергающие расчетливость и продуманность действий. «Русская лень» тоже проистекает из первоначальных условий труда. Короткое лето приучало работать быстро, лихорадочно, напрягая все силы, а потом уже надолго расслабляться и отдыхать в течение продолжительного осенне-зимнего безделья. «На дворе мороз, на печи тепло», — резонно говорит Емеля в оправдание своей лени. В настоящее время русские люди предпочитают аврал размеренному, кропотливому труду, подтверждая слова Ключевского о том, что «ни один народ в Европе не способен к такому напряжению труда на короткое время, какое может развить великоросс; но и нигде в Европе, кажется, не найдем такой непривычки к размеренному, постоянному труду, как в той же Великороссии» [Там же, с. 314].
В характере русского народа оставили глубокий след и многие ключевые события русской истории, привнесшие в этот характер новые черты или закрепившие те, что уже имелись. Важнейшим из таких событий было, конечно, принятие христианства в его византийской форме. Православие, придя на Русь, поддержало традиции коллективизма, закрепившиеся в русской сельской общине, и оформило их в виде идеи соборности. Оно учило милосердию, отзывчивости, стойкости в борьбе за свою веру с врагами земли русской. Именно христианство стало тем культурным ядром, которое помогло сохранить самобытность русского народа и русского национального характера в условиях инородного окружения. С другой стороны, на почве исконно русского максимализма усилилась нетерпимость ко всякого рода инакомыслию, которое трактовалось православной церковью как ересь, как уклонение с единственно правильного пути. Проповедь неукоснительной правоты только одной идеи, одной позиции, жесткое отстаивание догматов веры проникли в народный менталитет и на многие века определили формы развития идеологической борьбы в русской истории. Отрезанность Руси от большого мира Запада и Востока способствовала развитию консерватизма, преувеличенному восприятию своего народа, своей культуры как мерила всех ценностей, укоренению идей мессианизма.
Вместе с тем нельзя не видеть, что на характер, менталитет и поведение русских наложило глубинный отпечаток и восточное, татаромонгольское влияние, особенно в тот период, когда Северо-Восточная Русь входила в состав Золотой Орды. «Русский народ по своей душевной структуре народ восточный», — считал Н. А. Бердяев [1, с. 246]. И до сих пор глазами западных европейцев русские воспринимаются как восточные люди. Своим непонятным (с точки зрения Запада) поведением и проявлениями характера они нередко вызывают недоумение европейцев и американцев. «Как восточный человек он (русский человек) очарователен. И только тогда, когда он начинает претендовать на то, чтобы к нему относились как самому восточному из западных людей, а не как к самому западному из восточных людей, он становится (...) необычайно трудным для обхождения. Хозяин никогда не знает, какой стороной своей натуры он к нему повернется в следующий момент», — пишет Рэдьард Киплинг [4, с. 461].
В промежуточном положении между Европой и Азией, между западной и восточной культурами лежит, по мнению многих исследователей, объяснение разительных противоречий и плохо совместимых, полярных качеств русского характера. «Противоречивость и сложность русской души, — размышляет Н. Бердяев, — может быть связана с тем, что в России сталкиваются и приходят во взаимодействие два потока миро- вой истории — Восток и Запад. Русский народ «не есть чисто европейский и не чисто азиатский народ. Россия есть целая часть света, огромный Востоко-Запад, она соединяет два мира. И всегда в русской душе боролись два начала, восточное и западное» [1, с. 255].
Русский национальный характер можно рассматривать, с одной стороны, как «интерио-ризацию материальных условий существования, а с другой стороны, как кристаллизацию исторического процесса в психологии нации» [8, с. 64]. Именно поэтому проблема национального характера вызывает особый интерес как срез русской истории и культуры.
Национальный характер не только отражает в себе исторический процесс, но и сам влияет на него. На это указывал Н. А. Бердяев, говоря о том, что национальный характер проявляется не только в нравах, поведении, образе жизни, культуре, но и в судьбе нации, государства. Поэтому совершенно прав Ю. В. Лотман, утверждая, что «необходимо дополнить взгляд на историю как на поле проявления разнообразных социальных, общеисторических закономерностей рассмотрением ее как результата «деятельности людей». Без изучения «историкопсихологических механизмов человеческих поступков мы неизбежно будем оставаться во власти весьма схематичных представлений. И, более того, именно то, что исторические закономерности реализуют себя не прямо, а посредством психологических механизмов, само по себе есть важнейший механизм истории» [10, с. 64].
Особенно ярко этот механизм проявляет себя в переломные моменты истории, тогда, когда перед нацией встает вопрос культурноисторической альтернативы. В числе факторов, определяющих исторический выбор нации, следует учитывать и национальный характер.
Всем известно предание о выборе князем Владимиром религии для своего народа. С историко-политологической точки зрения несомненно, что единая, хорошо оформленная религия была совершенно необходима для становления единого русского государства, укрепления княжеской власти. Можно мотивировать выбор христианства и намерением укрепить отношения с Византией, могущественнейшей державой того времени, и другими историческими причинами. Но ведь предание говорит еще и о другом: Владимир послал десять самых умных бояр к болгарам, немцам и грекам. У болгар они нашли бедные храмы, унылые молитвы, печальные лица; у немцев много обрядов, да без красоты и величия. И только в Царьграде, у греков, торжест- венное богослужение потрясло русских послов и проникло в душу. И, вернувшись, они сказали Владимиру: «Когда пришли мы в греческую церковь, то уже не знали, где стоим: на земле или на небе, так нам было хорошо. Не можем мы забыть такой красоты и не хотим другой веры, кроме греческой». Таким образом, в предании на первое место ставится эстетическое восприятие богослужений, обрядов и воздействие через религиозную эстетику на эмоциональную сторону русской натуры. По логике предания и в соответствии с исторической памятью русского народа именно эта эмоциональность русского психического склада, всегда довлевшая над рассудочностью и отвергавшая голый прагматизм, и стала определяющим моментом в выборе веры, т. е. в выборе русским народом своего исторического пути.
История подчиняется своим законам, связанным и с развитием общества, и с экономикой, и с другими формами человеческой культуры. И тем не менее очень часто национальный характер придает общеисторическим явлениям специфический колорит, создает ту самую национальную специфику, о которой мы часто говорим.
Как отмечал Н. О. Лосский, «в политической жизни России массовые проявления страстности и могучей воли весьма многочисленны» [9, с. 263—264]. В тяжелые моменты вражеских нашествий эта самозабвенная страстность, пассионарность (термин Л. Н. Гумилева) народа не раз спасала русское государство. С другой стороны, страстность в отстаивании своей веры в сочетании с максимализмом усугубила трагедию раскола в русской православной церкви, сделала обычными самосожжения староверов.
О связи противоречивых явлений в развитии России с противоречивостью, полярностью русского характера пишут многие российские писатели и ученые. «Мы — консерваторы, оттого что мы — нигилисты, и одно оборачивается другим и замещает другое в истории» [11, с. 134]. Неоформленность русского характера, отсутствие равновесия и чувства меры приводят к тому, что в истории России «чередуются периоды «смуты», праздника дикой воли и деспотизма» [Там же], — утверждает Г. Померанц.
И, действительно, если вглядеться в русскую историю, то нетрудно увидеть, «как русское терпение, или долготерпение, длящееся годами, десятилетиями, неожиданно взрывается и оборачивается анархически-бунтарской стороной русского характера. Безудержность (общепризнанная русская национальная черта)»
[3, с. 61—62], которая в обычное время проявляет себя в удали, напористости, в разгуле веселья и пьянства, переходит в безудержную агрессивность, озлобленную жестокость. «Крайности бытия России и ее духа сходятся напрямую, без всяких опосредствований, переходов, промежуточных звеньев или этапов: или — или!» [6, с. 25]. «Или — или!» Так стоял вопрос во времена Февральской и Октябрьской революций, так он был поставлен и в наше время. «И я сжег все, чему поклонялся, Поклонился всему, что сжигал» (И. С. Тургенев). История России снова и снова дает нам примеры такого бескомпромиссного отношения нации к своим собственным традициям, к своим кумирам и идеям.
Неприятие «золотой середины», отсутствие мостов между различными полюсами бытия России и ее духа, стремительный и всегда неожиданный (нередко аффективный) бросок от одной крайности к другой — вот то, что создает характерный «русский почерк» поведения, мысли, стиля великого народа. То, что заставляет иностранцев говорить о «загадке русской души», и то, что бросает Россию в самые крутые виражи на ее сложном историческом пути. Не принимая в учет особенностей русского национального характера, пытаясь объяснить российские реалии с помощью своих культурных стереотипов, можно зайти в тупик и опустить руки перед «загадкой России».
-
1. Бердяев Н. А . Истоки и смысл русского коммунизма // Бердяев Н. А . Философия свободы. Истоки и смысл русского коммунизма. М. : Сва-рог и К, 1997. 413 с.
-
2. Бердяев Н. А . Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала ХХ века // О России и русской философской культуре: философы русского послеоктябрьского зарубежья. М. : Наука, 1990. 271 с.
-
3. Егоров Б. Ф . Очерки по истории русской культуры XIX в. // Из истории русской культуры : в 5 т. М. : Языки русской культуры, 2000. Т. 5 (XIX век). С. 11—350; Он же . Русский характер // Там же. С. 51—79.
-
4. Киплинг Р . Восток есть Восток : рассказы. Путевые заметки. Стихи. М. : Художественная литература, 1991. 461 с.
-
5. Ключевский В. О . Курс русской истории // Собр. соч. : в 8 т. М. : Госполитиздат, 1956. Т. 3. 424 с.
-
6. Кондаков И. В . Введение в историю русской культуры (теоретический очерк). М. : Наука, 1994. 378 c.
-
7. Культурология / под ред. Г. В. Драча. Ростов н/Д. : Феникс, 1998. 572 c.
-
8. Ли Тайпин . Национальная культурная психология и обновление педагогических концепций // Хубэй дасюэ сюэбао. 1997. № 1.
-
9. Лосский Н. О . Условия абсолютного добра. М. : Политиздат, 1991. 368 с.
-
10. Лотман Ю. М . Беседы о русской культуре. СПб. : Искусство-СПБ, 1994. 670 с.
-
11. Померанц Г . Разрушительные тенденции в русской культуре // Новый мир. 1995. № 5. С. 134— 138.
-
12. Чжоу Сяохун . Сяньдай шехуэй синьлисюэ (Современная социопсихология). Шанхай : Жень-минь чубаньше, 1997.
-
13. Юнг К . Архетип и символ. М. : Ренессанс, 1991. 302 с.
-
14. Юнг. К . Психология бессознательного. М. : Канон, 1994. 319 с.
-
15. Yale Richmond . From “nyet” to “da”. Understanding the Russians. Intercultural Press, Inc. USA, 1992.
Список литературы Русский национальный характер и его проявление в русской истории и культуре
- Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма//Бердяев Н. А. Философия свободы. Истоки и смысл русского коммунизма. М.: Сварог и К, 1997. 413 с.
- Бердяев Н. А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала ХХ века//О России и русской философской культуре: философы русского послеоктябрьского зарубежья. М.: Наука, 1990. 271 с.
- Егоров Б. Ф. Очерки по истории русской культуры XIX в. // Из истории русской культуры : в 5 т. М. : Языки русской культуры, 2000. Т. 5 (XIX век). С. 11-350; Он же. Русский характер // Там же. С. 51-79.
- Киплинг Р. Восток есть Восток: рассказы. Путевые заметки. Стихи. М.: Художественная литература, 1991. 461 с.
- Ключевский В. О. Курс русской истории//Собр. соч.: в 8 т. М.: Госполитиздат, 1956. Т. 3. 424 с.
- Кондаков И. В. Введение в историю русской культуры (теоретический очерк). М.: Наука, 1994. 378 c.
- Культурология/под ред. Г. В. Драча. Ростов н/д.: Феникс, 1998. 572 c.
- Ли Тайпин. Национальная культурная психология и обновление педагогических концепций//Хубэй дасюэ сюэбао. 1997. № 1.
- Лосский Н.О. Условия абсолютного добра. М.: Политиздат, 1991. 368 с.
- Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. СПб.: Искусство-СПБ, 1994. 670 с.
- Померанц Г. Разрушительные тенденции в русской культуре//Новый мир. 1995. № 5. С. 134-138.
- Чжоу Сяохун. Сяньдай шехуэй синьлисюэ (Современная социопсихология). Шанхай: Жень-минь чубаньше, 1997.
- Юнг К. Архетип и символ. М.: Ренессанс, 1991. 302 с.
- Юнг. К. Психология бессознательного. М.: Канон, 1994. 319 с.
- Yale Richmond. From "nyet" to "da". Understanding the Russians. Intercultural Press, Inc. USA, 1992.