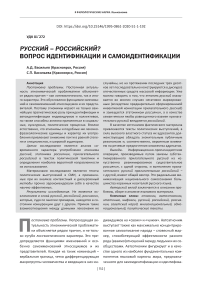Русский - российский? Вопрос идентификации и самоидентификации
Автор: Васильев Александр Дмитриевич, Васильева Светлана Петровна
Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu
Рубрика: Филологические науки. Языкознание
Статья в выпуске: 1 (51), 2020 года.
Бесплатный доступ
Постановка проблемы. Постоянная актуальность этнонимической проблематики объясняется рядом причин - как лингвистического, так и иного характера. Это обусловлено функциями именований и самоименований этносоциумов и их представителей. Поэтому этнонимы играют не только важнейшую прагматическую роль при идентификации и автоидентификации индивидуумов и коллективов, но также способны активно применяться в социальных, культурных, политических процессах. Вполне естественно, что этнонимы и подобные им лексико-фразеологические единицы и характер их употребления привлекают внимание почти в равной степени и специалистов, и широкой аудитории. Целью исследования является анализ современного характера употребления этнонима русский, этатонима россиянин, прилагательного российский в текстах политической тематики и определения наиболее вероятной направленности их использования. Материалами исследования являются тексты политических выступлений в СМИ, а примененные при их анализе контекстный и дискурсивный методы прочно зарекомендовали себя в качестве научно-эффективных. Результаты исследования. Не являются исключением и слова́ русский, российский, россиянин, которые, судя по многим примерам, находятся в состоянии конкуренции друг с другом. Причем такие взаимоотношения между данными лексемами не случайны, но на протяжении последних трех десятков лет последовательно конструируются в дискурсе отечественных средств массовой информации. Уже можно говорить о том, что этноним русский оказывается во многих случаях негативно маркированным (вследствие предварительно сформированной инвективной коннотации прилагательного русский) и замещается этатонимом россиянин, а в качестве семантически якобы равноценного взамен прилагательного русский внедряется российский. В качестве источников фактического материала привлекаются тексты политических выступлений, в силу высокого властного статуса их адресантов долженствующие обладать значительным публичным резонансом и, соответственно, вероятным влиянием на речевые предпочтения множества адресатов. Выводы. Информационно-пропагандистские операции, производимые путем замены субстантивированного прилагательного русский на искусственно реанимированное существительное россиянин, с одной стороны, и вытеснения прилагательного русский прилагательным российский- с другой, имеют общий вектор. Это радикальная минимализация национального самосознания большинства коренных носителей русского языка. Авторский вклад заключается в описании проблемы, сборе и анализе языкового материала.
Этноним, автоэтноним, этатоним, мифоген, русский, российский, россиянин, советский народ, многонациональный, однонациональный, политические тексты
Короткий адрес: https://sciup.org/144161833
IDR: 144161833 | УДК: 81?272 | DOI: 10.25146/1995-0861-2020-51-1-192
Текст научной статьи Русский - российский? Вопрос идентификации и самоидентификации
DOI:
П остановка проблемы. Непреходящая актуальность этнонимической проблематики объясняется рядом причин, и не только сугубо лингвистического характера. Это предопределяется функциями именований и особенно самоименований этносоциумов и их представителей. Каждая из таких номинаций – вербальная граница, четко дифференцирующая макрогруппы человечества и входящих в них ин- дивидуумов на «своих» и «чужих». Автоэтноним выступает также как максимально концентрированное самоописание народа - словесный маркер, способствующий эффективности разного рода (взаимо)отношений между людьми и их сообществами. Автоэтноним фигурирует и в качестве одного из наиболее фундаментальных компонентов языковой картины мира, предназначенного для самоидентификации и идентифика- ции любого человека и поэтому является весьма значимой составляющей как при установлении его личностного статуса, так и при формировании его представлений о собственном месте в различных процессах.
Вышесказанное непосредственно относится к непрекращающимся дискуссиям вокруг происхождения, функционирования и особенно современного статуса слов русский , российский , россиянин . Такие обсуждения касаются ряда аспектов этнологии, лингвистики, законотворчества, социального устройства, национальной культуры, языковой ситуации, государственной политики и других.
Обзор научной литературы. Социологи, историки и правоведы приводят убедительные доводы в пользу исторического подхода к употреблению этнонима русский и этатонима российский : «Современная Россия является многонациональным государством, в котором более восьмидесяти процентов ее населения, проживающего во всех субъектах Федерации, составляют русские. Становление русской нации неразрывно связано с процессом формирования русской национальной культуры, национального самосознания, в основе которого лежит ценностная система понимания ее роли в историческом процессе и перспективах развития» [Романников, Черноскутов, 2019, с. 357].
А.В. Теленков утверждает, что важнейшим фактором, объясняющим специфику вербализации этнонима русский , является фактор исторической памяти. Именование русский следует считать более древним, исконным словом [Теленков, 2008, с. 326].
Историк русского языка Е.И. Зиновьева пишет: «Лексема русский очень частотна в обиходном языке Московской Руси. Слово функционирует главным образом как прилагательное (ср.: русская земля, русская вера, русские города и многие другие атрибутивные сочетания). В этот период употребляются также производные от прилагательного наречия русски и по-русски. В качестве этнонима используются сочетания русский человек и русские люди, широко представленные в картотеке СОРЯ (Словарь оби- ходного разговорного языка Московской Руси XVI–XVII вв.). В форме единственного числа словосочетание встречается реже, например: „А Данилка въ расспросѣ сказался: бывалъ русский человѣкъ, а былъ въ полону у татаръ, а взятъ осьми лѣтъ” (Новомбергский 1911: 76, 1643 г.)» [Зиновьева, 2017, с. 98].
Наименование россияне и как производные от него слова российский, российская – явления более поздние, крайне редко встречающиеся в древнерусских письменных памятниках (название россияне не встречается вовсе) [Теленков, 2008, с. 327].
В наше время мы часто употребляем словосочетания «русские люди», «русский характер», «русский менталитет», «русская кухня». Но так же часто в официальных документах и выступлениях официальных лиц звучат слова «россияне», «российское общество», «российская действительность».
«Современные дискуссии о возможных путях развития России, состояние национальных отношений в стране делают злободневным анализ истории и современного состояния соотношения имени русского и названия российского; выяснения, какую роль то и другое играет в сознании граждан страны, в первую очередь населения, относящего себя к титульной нации. Наконец, весьма актуальна тема создания единого и удобного дома для всех народов России как стратегическая цель ее развития. Долгое время Россия шла под русским флагом, затем под советским, сейчас - под российским. Но что представляет собой этот российский флаг (идея, проект) и как он согласуется и должен согласовываться с русским этническим большинством страны? И удастся ли избежать столкновения русскости и российскости ?» [Теленков, 2008, с. 326].
Споры об этнониме русский идут во всех слоях общества, на страницах научных журналов, в публицистике, в Интернете. Они не сводятся к употреблению терминов, речь идет о национальной идентичности титульной нации России.
«На сегодняшний день существуют различные точки зрения и подходы к сопоставлению
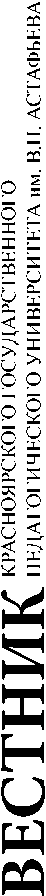
российскости и русскости . По мнению ряда исследователей, наблюдается почти непреодолимый конфликт между ними (А. Миллер, О. Ма-линова). Другие считают, что российскость и русскость не только должны быть примирены, но и это обязательно должно случиться: главный путь здесь – строительство наднационального государства, где „россиянин” означает гражданина России и ничего более того (Ю.П. Шабаев, А.В. Демина, С.Н. Абашин, А. Зализняк). За российскую нацию также, как известно, ратует известный этнолог В.А. Тишков. В то же время многие серьезные исследователи отрицают российскую нацию как реальность, поэтому у них российскость обретает политические, идеологические или схоластические окраски» [Там же].
В пользу употребления этнонима исследователи приводят тот факт, что Всероссийская перепись 2002 г. показала, что как русские, так и другие народы России не собираются отказываться от своей национальности в пользу российской идентичности.
Целью исследования является анализ современного характера употребления этнонима русский , этатонима россиянин , прилагательного российский в текстах политической тематики и определения наиболее вероятной направленности их использования.
Материалами исследования являются тексты политических выступлений в СМИ, а примененные при их анализе контекстный и дискурсивный методы прочно зарекомендовали себя в качестве научно-эффективных.
Результаты исследования. Нельзя не заметить, что время от времени обострение внимания к этнонимическим проблемам, зачастую искусственно гипертрофируемым, индуцируется за счет публичного комментирования их откровенными дилетантами, хотя высококвалифицированные специалисты неоднократно уже четко и аргументированно разъясняли историю, семантику и прагматику этих слов.
Подобные вопросы постоянно интересуют и неравнодушную часть так называемых «рядовых носителей языка» [Голев, 2008, с. 6, 16], к числу которых принадлежит их абсолютное большинство, обычно вынужденное, однако, принимать (как данность) формулировки, предлагаемые высшими государственными руководителями и массированно тиражируемые через все возможные каналы. Впрочем, самая интенсивная пропаганда не исключает анализа ее лозунгов и диктуемых ими векторов эволюций общества.
В вышеуказанных аспектах чрезвычайно показательны активные риторические усилия последних лет, очевидно направленные в совокупности на смену именования государствообразующего этноса РФ.
Приведем только некоторые примеры: «... Российский народ почувствовал себя неотъемлемой частью огромного мира...»1. - «...Мы единый российский народ <^>!»2. - «...Российская демократия - это власть именно российского народа с его собственными традициями народного самоуправления...»3. - «... Российский народ продемонстрировал удивительную собранность...»4. – «Хочу вам предложить тост за Россию, за российский народ »5 (ср. ранее известное: «Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только потому, что он - руководящий народ...»6). - «Я <^> воочию убедился в мощи российского народа и в мудрости российского народа » 7 и мн. др. Ср. также: «российская нация»8 и проч.
Несомненным импульсом к многолетнему доминированию этатонима россиянин в публичной речевой коммуникации, начиная с ее официозной сферы, стало его активное употребление первым президентом страны, предпринятое по настоятельной рекомендации Е. Боннер [Васильев, 2013, с. 404–415].
Эта тенденция к всеобщему безнациональ-ному нивелированию отразилась и в паралитературе (например, оксюморон « этнические россияне »)9, и даже в спортивных комментариях (ср. частые упоминания о россиянах и «российских хоккеистах» – игроках североамериканских клубов).
По всей вероятности, тому же вектору подчинены и постулаты « российской идентичности »10, на основе которых вербально и совершенно произвольно конструируются узколокальные модификации псевдонациональностей и квазиидентичностей. Например: «Теперь сибиряк гордо воспринимается как национальность I»11. - «Создав в одном городе межнациональное креативное пространство <…>, выиграем все мы – люди одной национальности - красноярцы »12. - «.За время стройки на БАМе возникла новая советская национальность - “ бамовцы ”»13 и т.п.
Вполне логично, что неоднократные упоминания некоей российской идентичности на самом верху вертикали власти индуцировали по-своему замечательные локальные варианты этой образцовой модели, ср.: «.Развивать то, что мы называем региональной идентичностью »14. - «.Нам дали возможность взглянуть на нашу сибирскость, нашу сибирскую идентичность »15 и др.
При этом небезынтересно наблюдать, что подобные мифогены довольно часто обнаруживаются в публикациях квалифицированных специалистов. Так, ср.: «…моменты, которые связаны с особенностями современного российского менталитета и в которых отражается национальная специфика российского метаязыкового сознания. Кампания <.> была построена с учетом российской ментальности» [Голев, 2008, с. 8]. – И: «национальный характер россиянина» [Бабенко, Конторских, 2013, с. 12] (возможно, в последнем случае сыграло должную роль высокое имя вуза, места работы авторов; впрочем, известны и более ранние свидетельства оперативного включения агитпроповских лозунгов «текущего момента» в лингвистическую терминологию – достаточно упомянуть горбачевско-перестроечный «человеческий фактор», изящно трансформированный в «человеческий фактор в языке»).
Следует напомнить, что в современных толковых словарях дается определение: « россияне - „жители, уроженцы России; граждане России”»16; то есть россияне - ни в коем случае не этноним, а этатоним. Понятно, что у массы людей, объединенных лишь территорией обитания, не может быть ни единого «национального характера», ни общей «национальной ментальности» и т.п. Об этом говорилось уже неоднократно (см. [Колесов, 1999, с. 82; Трубачёв, 2004, с. 70; 2005, с. 215–227; и др.]).
Кроме того, при изобретении новейших слов-мифогенов было бы нелишним учитывать судьбу их недавних исторических предшественников, типологически подобных (в смысле «вне-этничности» и «наднациональности») и претендовавших на долговечность.
Так, было официально утверждено возникновение ранее небывалой общности людей – советский народ - «многонац. коллектив тружеников города и деревни, объединенный общностью социалист. строя, марксистско-ленинской идеологией, коммунистич. идеалами рабочего класса, принципами интернационализ-ма»17. Но это «искусственное межнациональное
понятие ушло вместе с обанкротившейся идеологией <^>. Его пытаются видоизменить в понятие „российский народ”, которого в природе не существует» [Фролов, 2005, с. 506].
Упомянутый политтехнологический процесс несомненно производится, хотя о его зримых успехах пока что не оповещают даже с вершин власти, обычно неизменно оптимистичных. Ср.: «В Советском Союзе <^> даже придумали общность людей - советский народ <...>. Мы говорим про российский народ , но это пока не то. Мы не смогли найти эквивалента того, что было в Советском Союзе изобретено»18. - «Наша задача заключается в том, чтобы создать полноценную российскую нацию при сохранении идентичности всех народов, населяющих нашу страну»19 и т.п. Совершенно очевидно, что «создать полноценную нацию» даже высочайшим указом невозможно (как, скажем, волюнтаристски переименовать милицию в полицию): формирование нации происходит объективно, при взаимодействии ряда обязательных факторов и в течение длительного времени. Вероятно, подразумевается некий акт в традициях вербальной магии изменения реальности, который и манифестирует искомый результат. Но ведь, согласно восточной мудрости, сколько ни говори «халва», во рту слаще не станет…
Кстати, целесообразно вспомнить, как «создавался» советский народ. Оказывается, «русские <…> после Октябрьской революции в ходе социалистических преобразований <^> консолидировались в социалистическую нацию и вместе с другими нациями и народностями СССР образовали новую ист. общность – советский народ»20. Любопытно, однако, что это же издание ничего не сообщает о подобной «консолидации в социалистическую нацию» грузин, казахов, молдаван, украинцев и прочих, с которыми, следовательно, такие метаморфозы не про- изошли. По-видимому, и в сегодняшнем эксперименте роль главного объекта этноиспытателей отводится именно русским.
Между тем еще один мифоген, усиленно внедряемый в массовое сознание, - «многонациональная Россия», с научной точки зрения, как и все другие, ему подобные, не обладает адекватным семантическим наполнением, но служит лишь средством манипуляции настроениями «населения» ([Васильев, 2019, с. 138-170]). Требуемый пропагандистский эффект в таких случаях достигается в первую очередь интенсивным тиражированием словесного штампа.
Этот официозно и официально утвержденный постулат авторитетнейший отечественный этимолог, очень хорошо разбиравшийся и в вопросах этнографии, истории общества и его культуры, квалифицирует как «бесконечно муссируемый миф <…>. Ведь Россия и сейчас на 85 % населена русскими <..>. По научным воззрениям – если страна на 85 % населена каким-то этносом, она в принципе называется однонациональной» [Трубачёв, 2004, с. 206–207]. В духе времени обратимся к зарубежным арбитрам и корифеям в этой сфере – и оказывается, что, «согласно международной практике моноэтническим (национальным) считается государство, 2/ з или более населения которого принадлежит одному этносу»; об этом «в своих выступлениях говорил президент неправительственной организации „Дом свободы” <…> со штаб-квартирой в Вашингтоне Э. Каратницки; т.е. Россия - моноэтническое государство»21.
Возможно допустить, что представление РФ в статусе «многонационального государства» является (кроме деликатного опасения задеть чьи-то чувства) еще и некоей инерцией исторически недавней, советской эпохи, когда оно было вполне реальным - применительно к совсем другой стране. Так, по результатам переписи населения СССР 1982 г., численность его составляла 268,8 млн человек, принадлежавших к более чем 100 нациям и народностям, из которых (по переписи 1979 г.) к русским относились
137 397 тысяч человек22, т.е. приблизительно лишь около половины жителей страны. Поэтому формулировка, открывавшая статью 70 последней советской конституции: «Союз Советских Социалистических Республик - единое союзное многонациональное государство…» – была совершенно объективной и правомерной. Применение же такой характеристики к рудименту прежней державы отчетливо напоминает известную «осетрину второй свежести»23.
Однако в то же время изредка упоминается о том, что «государствообразующим народом, безусловно, является русский народ »24. Но такие вынужденные признания очевидного исторического факта являются единичными и спорадическими по сравнению с регулярными мантрами о «многонациональной России». Между прочим, заметим, что, может быть, не столь наукообразным, как этот официальный рефрен, но более точным следует считать определение, данное популярным ранее автором: «Россия - пестрая в национальном отношении страна»25.
Не следует забывать и о том, что русские на протяжении последних по крайней мере тридцати лет повсеместно подвергались и подвергаются откровенной, безапелляционной и изощренной дискредитации, выражающейся в инвективах по любому поводу и без всякого повода (см., например [Васильев, 2013, с. 378–391] и др.). Совершенно естественно и логично отсюда вытекает возникновение коннотативного ореола вокруг самого этнонима, маркирующего его безусловно негативно.
«Говоря о необходимости сохранения и развития самосознания русского народа в настоящее время, мы стоим на позициях необходимости и дальше проводить государственную политику по укреплению межнациональ- ных связей. <^>. Понимая, что вся многовековая история нашей страны пронизана совместными делами населявших ее народов, следует признать, что главным стержневым фактором является титульная нация – русский народ [Романников, Черноскутов, 2019, с. 361].
Выводы. Информационно-пропагандистские операции, производимые путем замены субстантивированного прилагательного русский на искусственно реанимированное существительное россиянин , с одной стороны, и вытеснение прилагательного русский прилагательным российский – с другой, имеют общий вектор. Это радикальная минимализация национального самосознания большинства коренных носителей русского языка, ранее уже успешно подвергнутых «советизации», которую затруднительно считать всеобще добровольной.
Разумеется, что «российская ментальность», «российский народ», «российская нация», «российский язык» и тому подобные слова-гомункулы и несообразности не имеют никакого отношения к реальной действительности – ни в прошлом, ни в настоящем. Однако за счет их насаждения происходит кардинальная трансформация языковой картины мира, в которой должны исчезнуть представления о собственно национальной принадлежности (причем именно русских), заменяемые ориентацией лишь по признаку гражданства; ту же роль играет и нечто вроде гиперонимического нивелирования с помощью мифогена «россияне».
Такие вербально-магические эксперименты принципиально не новы (ср. милиция → полиция , прописка → регистрация и т.п.), но вышеописанный несомненно отличается масштабностью и долговременностью гипотетических результатов.
Следует учитывать, что эта игра в слова очевидно навязывается властвующей «элитой», которая по сумме ключевых критериев откровенно космополитична (приблизительно так же, как и российская высшая страта накануне февраля 1917 г.). В ее аксиологической системе личное своекорыстие явно более значимо, нежели приказной «общероссийский
патриотизм»26, а сама Россия - нечто вроде вахтового поселка, «фактории на 1 / 7 части суши»27.
Известно, что в английском языке слово Russian, по существу, синкретично: оно выступает обозначением и «русского», и «российского», и - при желании и необходимости - по-луфантомного «россиянина». Поэтому англосаксы традиционно индифферентны к «национальной пестроте» России. По всей вероятности, российские элитарии, стремящиеся полностью и безвозвратно влиться в ряды самых достойных, по их мнению, представителей человечества, рассчитывают занять ту же лингвоментальную нишу, и для них состояние без-национальности весьма комфортно, а потому очень притягательно.
Кроме того, существует известное количество лиц, которые, наряду с российским, являются обладателями гражданства других стран и / или потенциальными обитателями так называемой «исторической родины» (обычно в дальнем зарубежье). Конечно, дискуссии, касающиеся употребления этнонимов или этатонимов, для них сугубо безразличны, но во многих случаях именно такие временные россияне и выступают за отказ от понятия ʽнациональностьʼ вообще - а в частности применительно в первую очередь к этнически русским . Такая позиция в послесоветский период неуклонно продвигается через средства массовой информации теми же «историческими уроженцами».
Однако надо иметь в виду нередкую детерминированность социальных феноменов вербальными импульсами. В данном случае к числу возможных результатов утраты этнонима государствообразующего народа относится призрачность перспектив целостной суверенной страны.
Список литературы Русский - российский? Вопрос идентификации и самоидентификации
- Бабенко Л.Г., Конторских А.В. Репрезентация образа России в программной речи кандидата в президенты (на материале предвыборной речи В.В. Путина) // Политическая лингвистика. 2013. № 4 (46). С. 12-16.
- Васильев А.Д. Игры в слова. Манипулятивные операции в текстах СМИ. СПб., 2013. 660 с.
- Васильев А.Д. Превращения слов. Современные лексико-семантические процессы. Красноярск, 2019. 316 с.
- Голев Н.Д. Особенности современного обыденного метаязыкового сознания в зеркале обсуждения вопросов языкового строительства // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2008. № 3 (4). С. 5-17.
- Зиновьева Е.И. Этнонимы РУСИН, русак и русский в обиходном языке Московской Руси XVI-XVII вв. // РУСИН. 2017. № 1 (47). С. 92-105. DOI: 10.17223/18572685/47/8