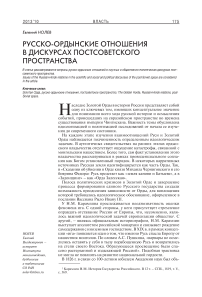Русско-ордынские отношения в дискурсах постсоветского пространства
Автор: Нолев Евгений Владимирович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: История
Статья в выпуске: 10, 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются вопросы русско-ордынских отношений в научных и общественно-политических дискурсах постсоветского пространства.
Золотая орда, русско-ордынские отношения, постсоветское пространство
Короткий адрес: https://sciup.org/170166681
IDR: 170166681
Текст научной статьи Русско-ордынские отношения в дискурсах постсоветского пространства
Н аследие Золотой Орды в истории России представляет собой одну из ключевых тем, имеющих концептуальное значение для понимания всего хода русской истории и осмысления событий, происшедших на евразийском пространстве во времена существования империи Чингисхана. Важность темы обусловлена идеологизацией и политизацией исследований от начала ее изуче ния до современного состояния.
На каждом этапе изучения взаимоотношений Руси и Золотой Орды наблюдается подчиненность определенным идеологическим задачам. В аутентичных свидетельствах на ранних этапах ордын ского владычества отсутствует ощущение катастрофы, связанной с монгольским нашествием. Более того, сам факт установления этого владычества рассматривался в рамках провиденциального созна ния как Богом установленный порядок. В некоторых нарративных источниках Русская земля идентифицируется как часть Орды. Так, в «Сказании об убиении в Орде князя Михаила Черниговского и его боярина Федора» Русь предстает как «земля канови и Батыеве», а в «Задонщине» — как «Орда Залесская».
Полоса политических кризисов в Золотой Орде и завершение процесса формирования единого Русского государства создали возможность преодоления зависимости от Орды, для воплощения которой требовалось идеологическое обоснование, оформленное в послании Вассиана Рыло Ивану III.
НОЛЕВ Евгений
У Н.М. Карамзина прослеживается неоднозначность оценки феномена ига. С одной стороны, у него присутствует стремление оправдать отставание России от Европы, что, несомненно, явля-лось важной идеологической задачей европеизации общества1. С другой, — являясь официальным историографом, Н.М. Карамзин выступает апологетом российской монархии и связывает рождение самодержавия с иноземным господством. В XIX в. в рамках концеп-ции «ига» появляется идея о том, что именно Русь спасла Европу от нашествия монголов. По словам А.С. Пушкина, «варвары не осме-лились оставить у себя в тылу порабощенную Русь и возвратились на степи своего Востока. Образующееся просвещение было спа сено растерзанной и издыхающей Россией». Подобная трактовка не могла не повлиять на развитие национальной гордости.
В 1826 г. в связи со 100-летним юбилеем Академии наук был объ- явлен конкурс на специальное исследование о последствиях монгольского завоевания России, в частности анализирующее влияние золотоордынского ига на образ правления, политические связи государства, просвещение и образование народа.
Идеологические и политические факторы сыграли, пожалуй, ведущую роль в утверждении концепции ига в советской историографии. Однозначная позиция идеологов марксизма в известной степени сужала границы интерпретации монгольского владычества. «Татарское иго, – писал К. Маркс, – не только подавляет, но растлевает и иссушает самую душу народную. Монгольские татары установили режим систематического террора». Согласно Ф. Энгельсу «при каждом завоевании более варварским народом ход экономического развития нарушается и уничтожается целая масса производительных сил». Сравнение И.В. Сталиным монгольского ига с новым позорным игом, которое «империалисты Австрии и Германии несут на своих штыках»1, имело большое мобилизационное значение. Концепция ига стала служить примером исторической героики и сплочения народа перед лицом общей опасности. При этом в рамках формационно-классового подхода оформляется идея об изначальном сопротивлении русского народа монгольскому игу и соглашательской политике русских князей – союзе феодалов и завоевателей против народных масс. Соответственно, акценты интерпретации концепции смещаются от положительного влияния ордынского владычества на становление самодержавия к выявлению классовой дихотомии. Свою актуальность сохраняют идеи о причине отставания от Европы и спасения Европы.
Очередное влияние идеологии на изучение русско-ордынских отношений связано с постановлением ЦК ВКП(б) от 9 августа 1944 г. «О состоянии и мерах улучшения массово-политической и идеологической работы в Татарской партийной организации», где предлагалось устранить серьезные недостатки и ошибки националистического характера в освещении истории Татарии, в частности «приукрашивание Золотой Орды».
С 1961 г. в условиях возрастания напря- женности в советско-китайских отношениях в китайской историографии происходит переосмысление истории династии Юань. Единодушный взгляд на монгольское владычество как на эпоху чужеземного гнета и притеснения китайского народа сменяется утверждением, что период правления династии Юань являлся эпохой великого объединения Китая. Реакция советских ученых на переоценку отрицательного отношения к монгольскому владычеству в Китае в трудах китайских историков проявилась в издании академического сборника статей «Татаро-монголы в Азии и в Европе», целью которого стала демонстрация научной несостоятельности теорий о прогрессивной роли военных походов и территориальных захватов на примере Чингисхана и его преемников2. В данном случае консервация концепции монголо-татарского ига произошла под воздействием внешнего фактора в условиях идеологического противостояния с Китаем.
После распада СССР произошли существенные изменения в изучении золотоордынского наследия. Во-первых, господствующий в советский период марксистский подход с преимущественно негативной трактовкой наследия Золотой Орды, не подкрепленный государственной идеологией, сменился методологическим плюрализмом и разнообразием концепций. Во-вторых, исследование золотоордынского наследия получило новый импульс в национальных историографиях. Это обусловлено, с одной стороны, тем, что именно в золотоордынский период в результате русско-ордынских отношений происходит окончательное становление трех народностей – русских, украинцев и белорусов, а завершение периода ордынской зависимости связано с созданием национального государства на Руси. С другой стороны, изучение золотоордынского наследия детерминировано национальнокультурным возрождением, поиском исторической идентичности в историографии Татарстана и Бурятии.
В современной российской историографии происходит преодоление одностороннего взгляда на русско-ордынские отношения и их значение для истории России. Концепция монголо- татарского ига сегодня исчерпала свой гносеологический и методологический потенциал и в условиях формирования толерантных межнациональных отношений является деструктивной. В российских исследованиях присутствует ряд оригинальных концепций русско-ордынских отношений, разработанных в трудах Ю.В. Криошеева, А.А. Горского, Ю.В. Селезнева, Н.Н. Крадина, В.Н. Рудакова, Р.Ю. Почекаева, С.А. Нефедова и др. При анализе политического содержания русско-ордынских отношений исследователи обращают внимание на многоплановость их содержания и неоднородность проявления в хронологическом порядке. В то же время присутствует географическая дифференциация отношений Золотой Орды с различными русскими княжествами. Новое направление исследований составляет изучение вопросов восприятия ордынской власти на Руси. И.И. Назипов провел детальное исследование форм и содержания политических связей Руси и Орды. Автор пришел к выводу, что из 261 года взаимоотношений Руси и Орды Северо-Восточная Русь обладала политической самостоятельностью и была независима от Золотой Орды в общей сложности 89 лет. Государственный характер политических связей Северо-Восточной Руси и Орды, соответственно, составляет 172 года, 36–37 лет из которых вовлеченность была формальной и 135–136 лет – фактической1.
Ю.В. Кривошеев подчеркивает, что в современной российской историографии проблема установления окончания ордынской зависимости Руси является в большей степени идеологизированной, поскольку непосредственно связана с созданием национального государства на Руси2. Традиционно датой окончания татаро-монгольского ига признается 1480 г. В.В. Похлебкин заканчивает историю русско-ордынских отношений 1481 г. – датой смерти последнего хана Золотой
Орды Ахмата3. Особой позиции придерживается А.А. Горский, датируя прекращение ордынского ига 1472 г. – после отражения золотоордынского похода, когда наступает осознание независимости Руси от Орды4.
Большое значение изучению русско-ордынских отношений уделяется в Татарстане. В 2003 г. в связи с необходимостью координации научных исследований по истории Золотой Орды был создан Центр исследований золотоордынской цивилизации при Институте истории им. Ш. Марджани. В 2009 г. Центр исследований золотоордынской цивилизации был реорганизован в Центр золотоордынских исследований, а в 2010 г. он был переименован в Центр исследований истории Золотой Орды им. М.А. Усманова. Центром исследований золотоордынской цивилизации с 2008 г. был организован ежегодный выпуск сборника «Золотоордынская цивилизация». Многие исследования, опубликованные в сборнике, направлены на изучение как русско-ордынских отношений, так и истории Золотой Орды как неотъемлемых составляющих истории России.
Казанские историки рассматривают Золотую Орду как тюркско-татарское государство, ключевой этап национальной и государственной истории, предшественника постордынских татарских ханств, в т.ч. и Московской Руси. Важный исторический и идеологический вопрос об идентификации влияния Золотой Орды на историю России решается в пользу тюркско-татарской и, шире, мусульманской цивилизации.
Одной из главных проблем, разрабатываемых исследователями Республики Бурятия, является изучение истории и влияния монгольского мира на ход экономического, культурного и социальнополитического развития Евразийского континента и Российского государства в частности. Фундаментальные исследования по истории Великой Монгольской империи проводятся в Институте монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. Изучение наследия Монгольской империи в отечественной истории является актуальным направлением исследований ученых Бурятского государственного университета.
Определяя глубину воздействия монгольского мира на историю Руси, исследователи подчеркивают, что это воздействие имело не внешний атрибутивный характер, а проявилось в дальнейшей природе российской государственной власти. Так, министр образования и науки Республики Бурятия А.В. Дамдинов совместно с профессором В.Д. Дугаровым отмечают, что российская государственность, зародившись в глубине Евразийского континента, не могла не наследовать в архетипе своей власти некоторые черты и признаки Золотой Орды1. В русско-ордынских отношениях ученые из Бурятии прослеживают влияние именно Монгольской империи. По этому поводу профессор Э.Д. Дагбаев отмечает, что для современной России вопрос о политических характеристиках Монгольской империи является принципиально важным, поскольку российская государственность, образно говоря, «выросла» из нее и продолжает находиться под влиянием ее основ2.
Наступление постсоветского этапа развития стран СНГ, обретение ими суверенитета и независимости предопределили формирование новых контуров политического и идеологического развития, бурный рост национального самосознания. В этих условиях возникла потребность концептуального переосмысления прошлого в рамках развивающихся национальных историографий.
В современной белорусской историографии русско-ордынских отношений внимание ученых сосредоточено преимущественно на событиях монгольского нашествия. Историческое понятие «Русь» отождествляется с понятием «славянские земли», за счет чего происходит своеобразное преодоление исключительности монгольского нашествия как факта истории сугубо Российского государства. Исследователи признают, что без внимательного изучения монгольского наше- ствия невозможно ответить на вопрос о влиянии монголов на характер развития восточнославянских народов в широкой исторической перспективе3.
А.В. Мартынюк на основе анализа изображений миниатюр Лицевого свода, в которых отсутствуют различия между русскими и ордынцами, приходит к выводу о существовании средневекового представления о единстве Руси и Золотой Орды4.
Вместе с тем в белорусской историографии обозначилась новая проблема – изучение взаимоотношений Литвы и Орды. Сегодня украинские и белорусские историки утверждают, что Великое княжество Литовское и Русское в определенной исторической ситуации включало преимущественно русские земли и русское население, а также претендовало на роль центра объединения русских земель.
История Киевской Руси в период золотоордынского владычества имеет как давнюю традицию изучения, так и опыт политической и идеологической концептуализации вопроса. В центре дискуссии середины XIX столетия стоял вопрос о степени разрушительности монгольского нашествия и его последствиях.
Советская историография истории Киевской Руси XIII в. имела следующие особенности. Во-первых, археологические издания завершались событиями 1240 г. Во-вторых, изучение периода истории Украины, непосредственно связанного с национальным вопросом, с политической точки зрения было опасным, а с научной – невыгодным5. Эти обстоятельства, в свою очередь, повлияли на консервацию представления о катастрофических и необратимых последствиях монгольского нашествия на Киевскую Русь в советской историографии.
В современной украинской историографии активизировались исследования малоизученной, но имеющей принципиальное значение для национальной истории Украины темы взаимоотноше- ний Золотой Орды и русских княжеств. Именно в этот период начинает формироваться как украинская народность, так и самостоятельный вектор исторического развития.
Особую важность приобретает вопрос о роли и значении Киева как политического центра Руси накануне монгольского нашествия и после установления зависимости от Золотой Орды. В современной украинской историографии Киев предстает как один из крупнейших политических центров, традиционный стольный город, символ единства Руси. О.В. Русина, рассматривая переход реальной политической гегемонии Киева в область политической традиции, отмечает, что в структурах средневекового сознания, традиционного по своей сути, Киев оставался доминирующим центром русских земель1. Следовательно, политическая нестабильность в Киевском княжестве в 1230-х гг. определялась не гипотезой об усилении децентрализации и стремлении князей развивать свои вотчинные земли, характерной для отече -ственной историографии, а наоборот, высоким политическим значением древнерусской столицы.
Происходит пересмотр значения последствий захвата Киева в 1240 г. Соглашаясь с тем, что разрушения монгольского нашествия имели значительные масштабы, современные исследователи полностью отрицают тезис о глобальной катастрофе и полном запустении Киевского княжества. Археологические исследования последних десятилетий показали, что после 1240 г. жизнь продолжалась во всех исторических районах Киева, однако интенсивность значительно снизилась2. Более того, согласно мнению специалистов, Киевское княжество не только восстановилось, но продолжало играть важную роль во взаимоотношениях Руси и Золотой Орды на всем их протяжении.
Следующей важной и дискуссионной проблемой в современных исследованиях является определение степени зависимости Киевского княжества от Золотой Орды. Вопреки мнению, присутствую -щему в отечественной историографии, о прямом подчинении Киевского кня- жества Золотой Орде украинские историки полагают, что Киевская земля непосредственно в состав Золотой Орды не вошла и управлялась ханами через местных феодалов или наместников3. При этом утверждается, что Киев сохранил позиции политического лидерства и стольного города среди русских земель. К тому же Киев оставался церковноидеологическим и сакральным центром Руси. Эти утверждения легли в основу концептуального переосмысления политических взаимоотношений Руси и Золотой Орды. Среди исследователей возобладало мнение, что ордынские правители руководствовались сознательным стремлением ослабить Киев как возможный центр политического объединения русских княжеств. Следовательно, убийство Михаила Черниговского в Орде объясняется не религиозными, а сугубо политическими соображениями, а передача Киева владимирским князьям происходила из расчета их слабой заинтересованности в управлении южнорусскими землями. Стремлением ослабить центр южнорусских земель особым и усиленным контролем объясняется также довольно длительное пребывание здесь баскаков и предположение об осуществлении ими княжеских полномочий с 1272 г. до конца XIII в.
Границы Золотой Орды и Киевского княжества были в значительной степени условными, документально не оформленными и ситуативно зависели от размера ордынских сил и активности русского населения. Рассматривая вопросы зависимости Киевской земли от Орды, О.В. Русина обращает внимание на переход Переяславля, Канова под непосредственное управление Золотой Орды, а также образование территории под названием Татарьска земля вследствие процессов «обезкняживания» и миграции населения с украинских земель, происходящих параллельно с формированием здесь татарской администрации и приходом татарского населения4.
В постсоветский период исследователи обратили внимание на тот факт, что историческое значение Синеводской битвы, в результате которой была ликвидирована зависимость украинских земель от Орды, явно недооценено как в историографии, так и среди широкой общественности. О. Брайченко причины слабой степени изученности как обстоятельств, так и значения битвы у Синих Вод в предшествующей историографии связывает с ограничениями, которые накладывала историография титульных наций на трактовку событий региональной истории. Ситуация, по словам историка, усугублялась тем, что изучение значения Синеводской битвы расходилось с тезисами о Куликовской битве как рубежном этапе в освобождении Руси от «татаро-монгольского ига», равно как и с историей завоеваний Казимира III в польской историографии1.
Г.Ю. Ивакин высказал предположение о возможности вхождения украинских земель в состав Великого княжества Литовского в 1261 г., что и могло послужить причиной сражения 1262 г2. Ф.М. Шабульдо склонен считать, что в результате битвы произошло освобождение населения Центральной Украины от обложения регулярной данью и непосредственного политического контроля Золотой Орды. В культурно-историческом плане изменения, наступившие после 1362 г., означали прекращение изоляции украинских земель от контактов с западноевр опейской цивилизацией3.
Г.Ю. Ивакин обращает внимание на упоминание «ордынского выхода» с Киевской, Волынской, Северской земель и Подолья в ярлыке 1393 г. хана Токтамыша великому князю Ягайло и наличие ханской тамги на первых типах монет, которые чеканил Владимир Ольгердович. Исследователь также отмечает, что присоединение украинских земель к Литовско-Русскому государству не всегда означало немедленное освобождение от золотоордынской зависимости, но признание верховной власти хана носило скорее формальный характер, а степень зависимости определялась конкретной исторической ситуацией. При этом систематическая дань превращалась в нерегулярный откуп для предотвращения набегов кочевников. Украинские ученые приходят к выводу, что даже неполная ликвидация ордынской зависимости в результате битвы на Синих Водах способствовала как прогрессивному развитию украинских земель, так и идеологическому подъему, являясь первым прецедентом победы над Ордой.
Таким образом, в современной украинской историографии внимание исследователей сосредоточено на изучении истоков формирования национальной и политической автономии украинских земель в контексте взаимоотношений Киевской Руси и Золотой Орды.
Резюмируя, необходимо отметить, что изучение русско-ордынских отношений становится все более актуальным в рамках исторического и политического дискурсов постсоветского пространства, поиска национальной идеи и идентичности.