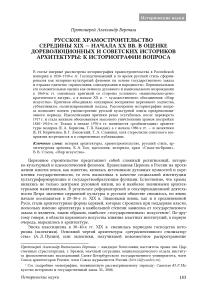Русское храмостроительство середины XIX - начала XX вв. в оценке дореволюционных и советских историков архитектуры: к историографии вопроса
Автор: Берташ Александр Витальевич
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Статья в выпуске: 5 (76), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье впервые рассмотрена историография храмостроительства в Российской империи в 1830-1910-е гг. Господствовавший в то время русский стиль сформировался как историко-культурный феномен на основе государственного заказа и отражал единство «православия, самодержавия и народности». Первоначальная его положительная оценка как символа духовного и национального возрождения к 1860-м гг. сменилась критикой со стороны условного «национально-демократического лагеря», а в начале ХХ в. - художественного объединения «Мир искусства». Критиков объединяло секулярное восприятие церковного зодчества, субъективизм, политизированный подход. Рассмотрение историографии вопроса позволяет понять умонастроение русской культурной элиты предреволюци- онного периода. Идеологизация критики резко усугубилась после переворота 1917 г. и стала важным обоснованием массового уничтожения храмов постройки 1830-1910-х гг. Только в начале 1970-х гг. начинается «реабилитация» архитектуры модерна (Е. А. Борисова, Т. П. Каждан), а с начала 1980-х гг. - и эклектики (Е. И. Кириченко, В. Г. Лисовский, Т. А. Славина), хотя стереотипы советского восприятия встречаются и в современных публикациях
История архитектуры, храмостроительство, русский стиль, архитектурная критика, к. а. тон, идеология, историзм, храм "спаса-на-крови", в. в. стасов, "мир искусства"
Короткий адрес: https://sciup.org/140223462
IDR: 140223462
Текст научной статьи Русское храмостроительство середины XIX - начала XX вв. в оценке дореволюционных и советских историков архитектуры: к историографии вопроса
Церковное строительство представляет собой сложный религиозный, историко-культурный и идеологический феномен. Православная Церковь в России на протяжении многих веков, как известно, являлась источником духовных ценностей и укрепления государственности, то есть выполняла в качестве социальной институции культуроформирующие и государствообразующие функции. Естественно, что храмы являлись не только центрами духовной жизни, но и наиболее значимыми архитектурными памятниками. В результате реформаторской и секуляризационной деятельности Петра значение церковной культуры в русском обществе снизилось, но вновь начало осознаваться в 20–30-е гг. XIX в. Знаковыми вновь, как и в средневековой Руси, стали архитектурные формы церквей, которые строились при поддержке власти, поскольку именно архитектура в наибольшей степени зависима от государственного заказа и является, таким образом, наиболее «государственным» искусством1. По-другому говоря, в области церковного искусства влияние властных институций, в первую очередь, выразилось в архитектуре.
Эпоха классицизма в 30–40-е гг. XIX в. сменилась периодом господства историзма (эклектики). Основной чертой архитектуры «ретроспективного стилизаторства» (А. Л. Пунин), или эклектики, получившей повсеместное распространение
в европейском зодчестве XIX в., было формирование архитектурного образа «на основе „умного выбора“ из „апробированного“ арсенала прошлого прототипов, которые ассоциировались с идейным и функциональным содержанием конкретного сооружения» — как «отдельных деталей-знаков», так и «целостных архитектурных организмов в соответствии с их традиционными принципами формообразования»2. Одновременно «целенаправленное преобразование архетипов», «реализация принципа через форму» обеспечивали «живую связь архитектуры с культурой прошлого и ее достаточное пространственное и информативное богатство». По определению историка архитектуры данного периода Е. И. Кириченко, историзм — «ориентация на определенный образец как исторический прототип и моделирование современности по образцу идеализированного исторического прошлого»3. Это — важнейшая черта эклектики, особенно в приложении к церковному строительству, и одновременно характеристика господствовавшего в николаевскую эпоху мировоззрения. Символом духовного и национального возрождения в николаевское царствование стали храмы, построенные в русском стиле, основоположником которого стал архитектор К. А. Тон (1799–1881).
Под русским стилем в настоящей работе подразумевается направление в зодчестве России в 1830–1910-е гг., представители которого в русле архитектуры эклектики (историзма, Eclecticism, Historismus), а в начале ХХ в. — модерна (Jugendstil, Art Nouveau), стремились к восстановлению национальной традиции, в основном утраченной с эпохи петровских реформ, и ориентировались в своем творчестве на древнерусское наследие: принципы формообразования и использование элементов декора допетровской архитектуры (конечно, с учетом уровня развития историко-архитектурной науки). Русский стиль прошел несколько этапов развития: «тоновский» («русско-византийский», «официально-академический») (1830–1860-е гг.), собственно русский («романовский», «царский», «московско-ярославский», стиль узорочья XVII в.) (1880-е — начало 1900-х гг.), неорусский («псковско-новгородский») (1900-е гг.) стили и ретроспективизм (1910-е гг.), а также различные стилевые вариации4.
Феномен храмостроительства в русском национальном стиле возник при непосредственном участии императора Николая I и выразил важнейшую для его царствования идею о единстве православия, самодержавия и народности («триада» министра народного просвещения графа С. С. Уварова). Распространению русского стиля содействовали два явления. Во-первых, превращение на рубеже николаевского и александровского царствований романтического интереса к отечественному прошлому, в том числе к архитектурному наследию, в род профессиональной деятельности. Определяющую роль в этом сыграло назначение на пост президента Академии художеств в 1817 г. А. Н. Оленина5. По поручению А. Н. Оленина архит. Н. Е. Ефимов с 1826 г. выполнял обмеры памятников Киева, Москвы и Новгорода, Ф. Г. Солнцев с 1830 г. — достопамятностей Владимирской земли. Архитекторы П. С. Максютин и М. Д. Быковский, позднее — Ф. Ф. Рихтер, А. А. Мартынов, И. М. Снегирев6 были в числе первых исследователей русской архитектуры в Москве7. С 1830-х гг. в России начал складываться научный подход к освоению наследия, который включал эмпирическое изучение памятников архитекторами-практиками, в частности, для их реставрации; сбор иллюстративных материалов и нарративной информации («художественная археология»).
Во-вторых, в 1840-е гг., по мере приобретения русским национальным стилем первенствующего места в храмостроительстве, произошло становление не только литературной и художественной, но и архитектурной критики. В кругах, близких к «Русской художественной газете» Н. В. Кукольника и А. Н. Струговщикова, сформировался весь ее типологический спектр: первичные формы (экспертные заключения), концептуальная критика (анализ взглядов, стилей, направлений, архитектурных школ), непосредственная критика — анализ конкретных объектов и проектов, соединяющий концептуальный и первичный аспекты рассмотрения, — наиболее наглядно — на примере строившегося тогда Исаакиевского собора8. Таким образом, русская архитектурная критика непосредственно воспринимала процесс развития храмостроительства на новом этапе. Уже в 1840-е гг. ряд авторов попытались осознать значение работ К. А. Тона, положительно оценивали новые течения в храмовой архитектуре, продолжающие отечественную традицию храмостроительства. В первую очередь, такой попыткой является предисловие архитектора И. И. Свиязева, инспектора по строительству самого знаменитого сооружения Тона — Храма Христа Спасителя, к изданию «Практические чертежи по устройству церкви Введения во храм Пресвя-тыя Богородицы в Семеновском полку в С.-Петербурге, составленные … К. Тоном» (М., 1845). Свиязев рассмотрел эволюцию христианской архитектуры и русской архитектуры в Новое время, показал значение Тона в возрождении ведущей роли православного храмостроительства в русской архитектуре, в возвращении его на «истинно христианский путь» на основе древнерусских традиций. Он сравнивал значение работ Тона с созданием А. С. Пушкиным русского литературного языка. По словам Т. А. Славиной, Свиязев в своих трудах «…логически обосновал русско-византийский стиль Тона»9. Другой апологет К. А. Тона — А. Т. Жуковский, в противовес «стилю церкви св. Василия Блаженного в Москве», выказывал предпочтение «стилю соборов московского Кремля», которые «представляют строгие формы и точное подражание древности», и видел его выразителем в современной архитектуре Тона10. Вторил им и знаменитый художник А. А. Иванов, подчеркивая связь нового стиля с европейским образованием: «Ты не веришь, чтобы архитектуру одного человека приняло все государство за образец… А, по-моему, если наш художник, вследствие глубокого своего учения за границей, окончит свои знания по России, то… из русской души его выйдет прекрасная русская архитектура XIX столетия, которая сделается сейчас же оригиналом для всех прочих ему современных художников»11. «Нашим единственным народным архитектором» назвал К. А. Тона известный критик Н. В. Кукольник12. Воспроизведение уваровской триады видел в постройках К. А. Тона еще один его современник — архитектор Н. В. Дмитриев: «В достославное ныне царствование императора Николая I произошел замечательный переворот в архитектурных понятиях. Древний стиль русских зданий, находившийся так долго в забвении, получил вновь права на уважение… Гений зодчего Тона постиг идею царя и воссоздал народную, самобытную архитектуру»13. Наиболее ярко высказался по этому поводу обер-прокурор Синода С. Г. Нечаев, рекомендуя императору Тона, «который необыкновенный талант свой предпочтительно посвящает древней Церковной Архитектуре, господствовавшей в нашем отечестве до начала прошедшего столетия» (12 января 1835 г.). Нечаев указывал, что, в случае издания тоновских чертежей, наша церковная архитектура «не менее других патриотических учреждений наложит неизгладимую, Священную печать народности на славное нынешнее Царствование и пребудет для грядущих времен громогласным памятником попечения, знаменующих сие Царствование, об утверждении в России праотеческого православия»14.
Наиболее сильно повлияли на последующее, особенно советское, искусствоведение работы критика В. В. Стасова — вследствие их многочисленности и агрессивно-секулярного и «прогрессивного» характера. «В архитектурных публикациях Стасова очень слабо выражено аналитическое начало, господствует эмоциональная прямая оценка, часто контрастная, без нюансов, разводящая явления по разные стороны от компромиссной линии»18. Восходящими к Стасову стереотипами стали политизированность и идеологизация восприятия архитектуры, искусственное противопоставление построек Тона и мастеров, условно отнесенных к демократическому направ лению (например, А. М. Горностаев а), отсутствие внятного стилистического анализа
(приписывание «византийских» черт творчеству Тона, в отличие от Горностаева, хотя в действительности именно Горностаев ввел в русскую церковную архитектуру византийские и романские элементы). С антиклассицистическим и антиакадемическим пафосом Стасовым постулируется отрицательное отношение к «казенным», «официозным» тоновским храмам. Однако даже Стасов, «обличая» Тона, вынужденно признавал его основоположником русского стиля: «Какая странность — Тон — родоначальник чего-то, в самом деле, важного. <…> Он был делец самый ординарный, <…> только сметливый каменщик <…> с сноровкой ловкого промышленного человека»19. Стасова интересовала не православная традиция, а разного рода фантастические мотивы и орнаменты, восходящие к языческой Руси, которые его единомышленники пытались воплотить в кирпиче, мраморе и дереве.
То же секулярное начало, только в форме «европеизированного», программно субъективного подхода, негативное отношение к храмостроительству в русском стиле, но с позиций «ретроэстетизма», преобладание корпоративной солидарности над здравым смыслом прослеживается в критике нового поколения «искусствоведов», сменивших «историков-рационалистов» (Т. А. Славина), — прежде всего, круга художественного объединения «Мир искусства». По мнению А. Н. Бенуа, «К. Тон, ампирист по воспитанию и убеждениям, принужден был играть роль какого-то воскресителя отечественной архитектуры и, следовательно, всю жизнь как бы играл комедию, отразившуюся роковым образом на всем церковном строительстве, от него проистекавшем; раздробленным, измельченным представляется и творчество Боссе, Ефимова, Бенуа, Горностаева, Щурупова»20. Данная критика была направлена против не только тоновской, но и «истинно национальной» архитектуры. Под ней понимался пришедший на смену тоновскому «романовский», или «московско-ярославский», вариант русского стиля, олицетворением которого стал храм Воскресения Христова («Спаса-на-Крови», 1883–1907), спроектированный А. А. Парландом и архим. Игнатием (Малышевым)21. Один из лидеров этого кружка С. К. Маковский отвергал равно нетерпимые для него проекты Тона, «„петушиный“, стиль, воспетый Стасовым» (так называемый «демократический вариант» русского стиля), и храм Воскресения на Екатерининском канале: «небывалое архитектурное уродство», «позорную страницу русского искусства». Автор продолжал: «Не согретый чувством и воображением, мертвенно-академический, несмотря на затейливость очертаний, вычурный без фантазии, тяжелый без внушительности — этот стиль, конечно, самое грубое, ненужное и нерусское, что создала Россия во имя национального искусства». «Его насадители, разные Тоны, Дали, Монигетти, Зау-ервейды, Тиммы, Шарлемани, Ропеты давно почили в славе… Ропет умер — явился Парланд». Будущим поколениям «останется одно — уничтожить произведение Парланда бесследно, срыть до основания чудовищный собор… Парланд и его помощники превзошли себя в декоративном изуверстве»22. Проблема перспективы церковного строительства в России у Маковского не находит ясного разрешения, но оно лежит во внецерковной плоскости: «Наша церковная архитектура, чтобы выделиться в гармоничное национальное храмоздательство, должна резко повернуть от стиля, который принято называть русским ренессансом, — к архаичным, элементарным формам. От них — уже возможна эволюция дальше, к чарующим неизведанностям нового примитивизма»23.
В. Я. Курбатов повторял надуманное суждение о том, что тоновский стиль представляет собой «агломерат форм и деталей византийских, романских и менее всего — русских», к тому же очень неудачно была выбрана, по его мнению, их «грязно-бурая» окраска. К сожалению, пророчески с учетом вскоре последовавшего храмо-разрушения звучат его слова, завершающие одну из статей: «Пока же остается пожелать, чтобы поскорей забыли о псевдорусских постройках, так испортивших русские города»24. Не лучше воспринимал Курбатов и «московско-ярославский» стиль: «Все православные храмы последнего времени, выстроенные в Гельсингфорсе, в Ревеле, в Петергофе25, представляют собой лишь грубое подражание формам XVI и XVII вв. Назойливо возвышаясь то над дворцами Растрелли, то над строгими постройками каменного порта, они своей безвкусицей едва ли прибавляют что к славе русского зодчества». Зодчим, по его мнению, должна быть предоставлена «полная свобода» в выборе стиля, только лишь согласованного с общим видом города, «и ни в коем случае не следует давать предпочтение русскому стилю»26.
Почти теми же словами обличал русский стиль А. А. Ростиславов — прежде всего, в церковных проектах, «начиная с совершенно бездарных произведений Тона и кончая Петергофской церковью Н. Султанова (собор свв. Петра и Павла в Петергофе. — прот. А. Б .) и особенно курьезным и нелепым сооружением проф. Парланда», «варварским образчиком художественного убожества»27. «Мания национализма всё более и более начинала тогда давать себя чувствовать… к государю проник со своим проектом (пользуясь связями с духовенством и низшими служащими) архитектор Парланд, и его чудовищное измышление, поднесенное в очень эффектной раскраске, нашло себе высочайшее одобрение. Уже во время постройки «Храма на Крови» Академия Художеств настояла на том, чтобы были исправлены слишком явные нелепости и недочеты проекта Парланда, но, увы, и в этом исправленном, окончательном виде это жалкое подражание Василию Блаженному поражает своим уродством, являясь в то же время настоящим пятном в ансамбле Петербургского пейзажа», — писал А. Н. Бенуа в своих воспоминаниях28. В конечном счете И. Э. Грабарь пришел к выводу, что не только тоновский стиль, но и все попытки возрождения древнерусских форм в архитектуре исчерпали себя29.
Противоположные суждения звучали редко. Так, брат А. Н. Бенуа архит. Л. Н. Бенуа называл храм Воскресения Господня «наиболее замечательным сооружением» и «весьма интересным образцом современной церковный архитектуры, в особенности внутренние пропорции и предполагаемая отделка храма обещают много хорошего. Строится храм прекрасно, по проекту профессора архитектуры А. А. Парланда, из материалов отечественного производства, что отчасти задерживает ход работ. <…> Начало развития национального искусства в архитектуре относится ко времени царствования императора Николая I, который был знатоком и любителем всего прекрасного. При нем начинается возрождение русского стиля церковного и гражданского зодчества. Благодаря деятельности Тона и Горностаева и тщательным исследованиям наших памятников старины Мартыновым, Солнцевым, Рихтером и Горностаевым сознательно крепла и росла любовь к национальным формам. Общенациональное направление минувшего царствования и соединенный труд наших славных исследователей и всех следовавших за ними до последнего времени искателей новых форм и созидателей современной архитектуры русского стиля привели к весьма определенным результатам, и наша русская национальная архитектура получила впервые права гражданства не только у нас, но и во всем цивилизованном мире»30. Более глубокими представляются и оценки архитектора Н. В. Султанова31. Следует отметить, что Л. Н. Бенуа и Н. В. Султанов были связаны с государственным заказом и императорской семьей, что, однако, не делает их суждения менее обоснованными. Взвешенные оценки русского церковного зодчества встречаются также в архитектурной периодике и «Трудах съездов русских зодчих» (I–IV). Однако в большинстве профессиональных публикаций не только конца XIX в. — эпохи «реализма», но и начала ХХ в. «говорится о конструкции, о вместимости, об отоплении, но не о стиле и, вообще, не о художественных проблемах»32.
В целом восприятие самими архитекторами истории позднего русского храмо-строительства и задач в этой области на будущее было, несомненно, противоречивым и субъективным. Один из наиболее значительных мастеров неорусского стиля начала ХХ в., пришедшего на смену «московско-ярославскому» варианту русского стиля, А. В. Щусев, в докладе 1905 г. в духе времени «восставал» «против превращения, как это теперь делают, бесхитростной, детски простой и искренней древнерусской архитектуры и убранства в парадные, против коверканья (как это мы видим, начиная с тоновской архитектуры и до наших дней, за немногими исключениями) простых и живых форм на „приличный“ лад. Я называю подобное искусство бутафорским, да и то на плохой вкус». Он призывал к свободе религиозного искусства как искусства чистой идеи: «Необходимо уловить и почувствовать искренность старины и подражать ей не выкопировкой старых форм, но созданием новых, в которых бы выражалась так искренне и так красиво, как в старину, идея места общения людей с Богом». Отметим, что взгляды Щусева разделяли не все слушатели его доклада — Н. П. Кондаков вообще отрицал возможность того, что искусство, зависящее от формы и конструкции, может выражать идею: «Кроме художественной формы, архитектор идей иметь не может». Так же полагал известный храмостроитель А. И. фон Гоген. По их мнению, архитектор должен решать лишь конструктивные и функциональные задачи. Споря с ними, Щусев, с одной стороны, призывал «правильно выражать идеи и достигать силы впечатления, не раздумывая о средствах (предполагается, что средства — т. е. знание современных конструкций — архитектору доступно в совершенстве, подобно тому, как музыкант должен знать инструмент, при помощи которого он творит)», с другой стороны — «не задаваться метафизикой»33. Иррациональное у Щусева — не церковное, а личностное, чувственное, сделать какие бы то ни было практические выводы из его слов невозможно.
То же можно отнести и к текстам московского архитектора и критика начала ХХ в. И. Е. Бондаренко, который в своих воспоминаниях также акцентировал негативные черты эклектики: «непонимание основных форм, навязанная классическая симметрия, совершенно чуждая русскому стилю, сухие детали, набранные из всех эпох русской архитектуры» в постройках М. Н. Чичагова и А. Н. Померанцева «делали в конце концов из… здания какой-то пряник, несмотря на большое мастерство самого строительства». Проекты московских архитекторов Б. В. Фрейденберга и А. Э. Эрих-сона, по его мнению, — «чистая эклектика отовсюду набранных русских форм без их логической связи и без их художественной цельности». В. А. Шретер, И. С. Китнер, Л. Н. Бенуа «выстроили целый ряд зданий с применением русских форм, выполненных прекрасно, но лишенных органичности русского искусства». Проблему распространения новых архитектурных форм он видел в том, что «заказчики, захваченные общим разочарованием эпохи безвременья, не могли проникнуться основами самобытного народного искусства». Он представлял русский стиль как воплощение духа русской архитектуры, не ограниченного временными рамками, как способность каким-то образом «строить по-русски»34. Органичным для Бондаренко было зодчество России 1900–1910-х гг. в неорусском стиле, например творчество архитектора-реставратора и историка В. В. Суслова, но стилю этому так и не удалось стать «большим», реализовать свои возможности, получить поддержку в разных слоях общества.
В программной речи Санкт-Петербургского епархиального архитектора А. П. Аплаксина (1911) сочетаются апология религиозного искусства в трактовке круга мастеров неорусского стиля, призыв к «национализму» в творчестве и «реабилитация» церковной архитектуры XVIII — начала XIX в.: «Неужели храм в стиле ампир — менее христианский храм, чем построенный в византийском стиле, неужели Смольный собор менее молитвенный храм, чем новый храм на Екатерининском канале?»35. Он указывал на то, что падение русского церковного искусства обусловлено «малой осведомленностью» архитекторов, «поддакиванием вкусам современного русского общества», но самое важное — забвением «главной идеи религиозности в построении храмов»: «зодчий не думает о религиозной тайне, не проникается сознанием Божественного, а смотрит на храм как архитектурную концепцию, идея которой, будто бы, всецело покоится на внешнем ее содержании». Одновременно Аплаксин полагал, что «самый последний крик искусства, тот, который мы слышим сейчас, — это националистические стремления. <…> Эпоха русского возрождения настала, верую в ее истинный прогресс и ожидаю грядущего гения»36.
Таким образом, уже в дореволюционный период доминировали идеологические и субъективные оценки феномена храмостроительства в русском стиле; они распространялись и на взгляды архитектора, и на качество его проектов. Исторический контекст, художественные и конструктивные достоинства сооружений фактически не учитывались. Проекты Тона стали лишь поводом для завуалированного выражения претензий к существовавшему тогда политическому строю, для критики императорской власти либо для реализации собственных амбиций в среде достаточно секуляризованного общества.
Естественно, такого рода тенденции, прежде всего идеологизация критики, только усугубились после переворота 1917 г., поскольку русский стиль считался воплощением уваровской триады. Начиная со школы И. Э. Грабаря русский стиль стал именоваться «псевдорусским» (термин с негативной коннотацией, как и «ложно-русский», который впервые появился у Стасова)37 и «реакционным», его художественная ценность не признавалась. Историк архитектуры В. В. Згура, правда, впервые указал на последовательную эволюцию русского стиля, т. е. органичный путь его развития, при этом само направление не признавая органичным. На вопрос о причинах отсутствия каких-либо альтернативных, помимо историзма, путей развития зодчества данного периода и о том, какими э ти пути могли быть, автор «отвечать не берется»38.
Храмы и без того воспринимались не просто как «отживший хлам», но как зримые приметы прежнего общественного строя, некий потенциал, способный помочь «врагам советской власти» активно воспрепятствовать строительству «новой жизни». Агрессивное неприятие поздних (середины XIX — начала ХХ вв.) церковных построек стало важным обоснованием их массового уничтожения: они даже формально не состояли под государственной охраной. Первыми пострадали именно памятники русского стиля: например, в Ленинграде — Николо-Александринская церковь при Пу-тиловском заводе (арх. Вас. А. Косяков, закрыта в феврале 1925 г. и перестроена его учеником А. С. Никольским под клуб) и две церкви, построенные арх. К. А. Тоном: Благовещенская на одноименной площади (закрыта в 1928 г. и разобрана с января по сентябрь 1929 г.) и Екатерининская (закрыта в 1929 г. и разобрана). Тихвинская церковь Пюхтицкого подворья самим автором ее проекта, гражданским инженером В. Н. Бобровым, в 1929 г. была перестроена под Среднегаванский универмаг39. Напрасно председатель общества «Старый Петербург — Новый Ленинград» П. Н. Стол-пянский пытался получить для музея «оборудование» Путиловской церкви, которую он, будучи историком вполне «левых» взглядов, тем не менее, оценивал как «ценный историко-художественный памятник последней эпохи русского церковного искусства — периода заката накануне Революции». Ничего из «художественно выдержанного до последних мелочей» убранства не уцелело. Варварской практике следовали и те, кто по должности должен был бы заниматься охраной наследия. Заместитель заведующего отделом охраны памятников Леноблисполкома архитектор Н. Н. Белехов в своем экспертном заключении от 28 августа 1932 г. пытался опровергнуть «весьма распространенное среди населения и даже среди специалистов» мнение о ценности б. церкви «Спаса-на-Крови» — «якобы весьма характерного памятника своей эпохи» и «красивого здания». Белехов с возмущением указывал, что даже «были требования включить это сооружение в число охраняемых». Не считая нужным аргументировать свое мнение, автор писал, что здание «подлинной художественной ценности не представляет», а его архитектура «чужда общему художественному облику города»: «Отдел считает возможным разобрать здание с проведением массовой разъяснительной работы среди населения и передать ценные фрагменты внутренней отделки по указанию отдела в ленинградские музеи. Внутреннюю облицовку из дорогих пород камня следует использовать в новом строительстве»40. В 1938 г. при попытке сноса Знаменской церкви (арх. Ф. И. Демерцов, 1794–1804) Белехов приводил аргументы в пользу сохранения здания: архитектура церкви «выдержана в классическом стиле и не является специфически церковной… а потому может быть легко реконструирована путем уборки церковных атрибутов» под билетные кассы. Сооружения в русском стиле как «неспецифически церковные» оценить было невозможно, поэтому Белехов, будучи не в состоянии даже правильно назвать их, предлагал «снести ряд бывших церквей, действительно портящих ландшафт города и чуждых его архитектуре. Такими объектами являются церковь Финляндского полка на набережной Большой Невы, церкви на пр. Газа, на улице Марата41, храм „на крови“, общее количество которых может быть более 10»42. Храм Воскресения «на Крови» был взят под государственную охрану только в 1968 г.
Характеристика позднего русского храмостроительства и его стилистики в послевоенный период обычно включала в себя набор бессмысленных ругательств43. Первыми специальными работами, посвященными русской архитектуре середины XIX — начала XX вв., явились статья, а затем диссертация Н. Ф. Хомутецкого44, в которой имеется глава «Национальные тенденции»45. В вышедшем в 1956 г. в Москве втором издании «Истории русской архитектуры» стиль Тона интерпретируется как символ «реакционности господствующих слоев России». Выделена архитектура, подражающая зодчеству XVII в. и отличающиеся «пониманием сущности древнерусского зодчества» постройки начала ХХ в.46 Те же оценки присутствуют и в издании 1984 г., но уже признается, что «механическое соединение» деталей в тоновских постройках сочетается с «очень высоким техническим уровнем строительства». Тоновский стиль противопоставляется якобы более демократичному (?!) классицизму. «Московско-ярославский» этап русского стиля именуется псевдорусским, неорусский — ретроспективным, он заслужил позитивную оценку47.
В монографии Е. А. Борисовой и Т. П. Каждан «Русская архитектура конца XIX — начала XX века» (1971) еще сохраняются прежние идеологические оценки. «Казенный византийский стиль», по мнению авторов, насаждался свыше, не имел ничего общего с древнерусской архитектурой и был лишь «косвенным выражением шовинистической политики царизма»48. Правда, в этой монографии впервые предпринята попытка дифференцировать его направления. Особенно тщательно рассмотрен неорусский стиль. В русле проводимой авторами «реабилитации» модерна они именуют его «полноценным эстетическим феноменом». В диссертации Е. А. Борисовой «Русская архитектура второй половины XIX века» (1986) содержится положение о том, что «почва для византийского стиля была подготовлена всей суммой идей, которые пронизывали историческую действительность России того времени, причем за словом „византийский“ вставала целая цепь ассоциаций, включавших идеи государственности и официального православия»49.
Е. И. Кириченко еще в 1984 г. указала на необходимость комплексного подхода к зодчеству второй половины XIX в., «сочетания культурологического и художественного анализа, соотнесения архитектурных форм с исторически меняющимися представлениями о прекрасном, а того и другого — с социальными и культурными процессами»50. Преимущественно гражданской, а не церковной архитектуре посвящена ее статья «Проблема национального стиля в архитектуре России 70-х годов ХIХ века» (1977) и монография «Русская архитектура 1830–1910-х годов», выдержавшая два издания (М., 1978, 1982), как и публикации об архитекторах И. П. Ропете и В. О. Шервуде. Напротив, преимущественно церковная архитектура рассматривается в ее статье «Поиски национального стиля в творчестве архитектора В. А. Покровского» (1973) и в монографии «Михаил Быковский» (М., 1988). В монографии «Архитектурные теории XIX века в России» (М., 1986) Е. И. Кириченко подробно остановилась на различных концепциях народности в архитектуре (Н. И. Надеждина, И. И. Свиязева, В. В. Забелина, В. О. Шервуда, Л. В. Даля, Н. В. Султанова и других), указала, что официальная идеология адаптировала основополагающую для романтизма идею народности51. В диссертации в форме доклада «Проблемы развития русской архитектуры середины XIX — начала XX веков» (М., 1989) автор обратила внимание на то, что «культовое зодчество переживает в России 1830–1910-х гг. своеобразный ренессанс». Росту храмового строительства в русском стиле содействовали, по ее мнению, осознание проблем будущего России, в частности крестьянского вопроса, и подъем самосознания недворянских слоев общества. В ряде статей Е. И. Кириченко рассмотрены государственная политика в области архитектуры данного периода и проблемы заказчиков построек в русском стиле.
Из публикаций советского периода русскому стилю посвящены работы В. Г. Лисовского: статьи «Теория и практика «национального стиля» в русской архитектуре второй половины XIX — начале XX в.» (1975), «Поиск „национального стиля“ в русской архитектуре XIX — начала ХХ в.» (1978), «О модификациях национального стиля в архитектуре» (1985) и брошюра «Национальные традиции в русской архитектуре XIX–XX века», изданная в 1988 г. В своей докторской диссертации52 автор рассматривает связь «русско-византийского» стиля с самодержавной властью. Начальному этапу в развитии русского стиля и его теории посвятила свои публикации Т. А. Славина, автор первых и единственных монографий о творчестве К. А. Тона (Константин Тон. Л., 1982; Л., 1989; М., 2016). Автор подчеркивает новаторский характер зодчества Тона и органичность его работ, разрабатывает новые концепции, позволяющие нетрадиционно оценить феномен русского стиля.
Этапы развития русского стиля в столице обозначены в статье Б. М. Кирикова «„Русский стиль“ в архитектуре XIX в. (этапы и направления)»53. Русский стиль характеризуется здесь как стилизаторский способ освоения отечественной старины.
Таким образом, рассмотрение историографии, казалось бы, частного историко-архитектурного вопроса позволяет лучше понять умонастроение русской культурной элиты, которое менялось в сторону идеологизации и секуляризации в период от 40-х гг. XIX в. до начала ХХ в. и характеризует развитие мировоззренческого кризиса, результатом которого стало крушение империи. Показательно единодушное критическое умонастроение по отношению к позднему русскому церковному зодчеству, вне зависимости от художественных и технических качеств сооружений, «народников» Стасова и Забелина, «революционера» Герцена, эстетов-«мирискусников» и брутальной советской «критики», которых объединили секуляризм и антимонархизм.
Возвращаясь к историко-архитектурному аспекту, следует отметить, что неотчетливость представлений о стилистике и эволюции позднего русского храмострои-тельства, которая встречается и в современных публикациях54, обусловлена не только недостаточным изучением источников, но и неполной деидеологизацией современной историко-архитектурной науки, зависимостью от печального «наследия» богоборческого времени, отсутствием критического подхода. Но трудами Е. А. Борисовой, Б. М. Кирикова, Е. И. Кириченко, В. Г. Лисовского, Ю. Р. Савельева, Т. А. Славиной, А. С. Щенкова и других авторов как позднесоветского периода, так и, в первую очередь, периода 1990–2000-х гг., остающихся за рамками настоящей статьи, в целом оказался преодолен период пристрастных критических оценок русского стиля в отечественном зодчестве. Эклектика перестала восприниматься как время «междустилья» после классицизма и до распространения модерна. Отказ от ангажированной оценки творчества К. А. Тона и его последователей позволил вновь говорить об их выдающейся роли в русском храмостроительстве Нового времени.
Список литературы Русское храмостроительство середины XIX - начала XX вв. в оценке дореволюционных и советских историков архитектуры: к историографии вопроса
- Аксенова Г. В. Русский стиль. Гений Федора Солнцева. М., 2009.
- Аплаксин А. П. Русское церковное искусство и его современные задачи//Труды IVсъезда русских зодчих. СПб., 1911.
- Антонов В. В., Кобак А. В. Святыни Санкт-Петербурга. СПб., 2010.
- Белоножкин А. Е. Санкт-Петербургский епархиальный архитектор А. П. Аплаксин.СПб., 2013.
- Бенуа А. Н. Мои воспоминания. М., 1980. Т. 1.
- Бенуа А. Н., Лансере Е. Е. Дворцовое строительство императора Николая I//Старыегоды. 1913. № 7-9 (июль-сентябрь). С. 173-197.
- Бенуа Л. Н. Статьи и записные книжки. Оттиск из «Недели строителя» за 1894 г.//Научная библиотека Российской Академии Художеств. Ф. 16. Оп. 1. Д. 1. 1894-1895 гг.
- Берташ А. В. Содержание и эволюция русского стиля в церковной архитектуре середины XIX -начала XX вв.//Искусство христианского мира. М., 1998. Вып. II.
- Берташ А. Судьбы культурного наследия Православной Церкви в Санкт-Петербурге -Петрограде -Ленинграде в ХХ веке. Источники и основные этапы//Памятники истории и культуры Санкт-Петербурга. СПб., 2004. Вып. 7.
- Берташ А. Стилистические особенности храмостроительства в 1830 -1870-е гг. в России: столица и национальные окраины//Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 15. Искусствоведение. 2013. Вып. 1. С. 178-198.
- Берташ А. //Три века Санкт-Петербурга. Энциклопедия. Т. 2: Девятнадцатый век. Кн. 6: С-Т. СПб., 2008.
- Берташ А. Церкви в городской среде Санкт-Петербурга -Петрограда -Ленинграда. Середина XIX -конец XX века//Пространство Санкт-Петербурга. Памятники культурного наследия и современная городская среда. Материалы научно-практической конференции. СПб., 2003. С. 283-288.
- Борисова Е. А. Русская архитектура второй половины XIX века. Автореф. дис. … д-раархитектуры. М., 1986.
- Борисова Е. А., Каждан Т. П. Русская архитектура конца XIX -начала XX века. М.,1971.
- Герцен А. И. Собрание сочинений. М., 1956. Т. 6.
- Грабарь И. Э. Несколько мыслей о современном прикладном искусстве в России//Мирискусства. 1922. № 3.
- Дмитриев Н. В. Очерк Московского Кремля в архитектурном отношении//Москов-ские губернские ведомости. 1849. № 50.
- Жуковский А. Т. О художественных архитектурных произведениях. СПб., 1856.
- Заварихин С. П. Историография архитектурного процесса конца XIX-началаХХ вв.//Сто лет изучения архитектуры России. Сборник научных трудов. СПб., 1995.С. 35-43.
- Заварихин С. П. Русская архитектурная критика. Середина XIII -начало XX вв. Л.,1989.
- Згура В. В. Старые русские архитекторы. М.; Пг., 1923.
- История русской архитектуры. М., 1956; Л., 1984.
- Кейпен-Вардиц Д. В. Храмовое зодчество А. В. Щусева. М., 2013.
- Кириков Б. М. «Русский стиль» в архитектуре XIX в. (этапы и направления)//Исто-рия и культура славянских стран. Л., 1972. С. 73-77
- Кириков Б. М. Храм Воскресения Христова (к истории «русского стиля» в С.-Петер-бурге)//Невский архив. М.; СПб., 1993.
- Кириченко Е. И. Архитектурные теории XIX в. в России. М., 1986.
- Кириченко Е. И. К вопросу о пореформенных выставках России как выражении исто-рического своеобразия архитектуры второй половины XIX в.//Художественные процессыв русской культуре второй половины XIX века. М., 1984.28. Кириченко Е. И. Михаил Быковский. М., 1988.
- Кириченко Е. И. «Памятники древнего зодчества…» Ф. Ф. Рихтера в контексте рус-ской культуры середины XIX в.//Забытый зодчий Ф. Ф. Рихтер. М., 2000.
- Кириченко Е. И. Поиски национального стиля в творчестве архитектора В. А. Покров-ского//Архитектурное наследство. М., 1973. Вып. 21.
- Кириченко Е. И. Проблема национального стиля в архитектуре России 70-х годов ХIХвека//Архитектурное наследство. М., 1977. Вып. 25.
- Кириченко Е. И. Проблемы развития русской архитектуры середины XIX -началаXX веков. М., 1989.
- Кириченко Е. И. Романтизм и историзм в русской архитектуре XIX в. (к вопросуо двух фазах эклектики)//Архитектурное наследство. М., 1988. Вып. 36.
- Кириченко Е. И. Русская архитектура 1830-1910-х годов. М., 1978; 1982.
- Кириченко Е. И. Русский стиль. М., 1997.
- Кукольник Н. В. Успехи архитектуры в России в последнее трехлетие//Библиотекадля чтения. 1840. Т. 38. Разд. 3.
- Курбатов В. Я. Церкви как украшение городов//Зодчий. 1909. № 20.
- Курбатов В. Я. О русском стиле для современных построек//Зодчий. 1909. № 30.
- Лисовский В. Г. Академия Художеств и ее архитектурная школа в процессе развитиярусской архитектуры XIX-XX веков. Автореф. дис. … д-ра искусствоведения. Л., 1986.
- Лисовский В. Г. О модификациях национального стиля в архитектуре. Архитектур-ное наследие конца XIX -начала XX века и его роль в современном градостроительстве.Таллин, 1985.
- Лисовский В. Г. Национальные традиции в русской архитектуре XIX-XX века. Л., 1988.
- Лисовский В. Г. Петербургская Академия Художеств и проблемы«национального стиля»//Проблемы развития русского искусства. Российская Академия художеств.Санкт-Петербургский гос. академический институт живописи, скульптуры и архитектурыим. И. Е. Репина. Научные труды. Л., 1976. Вып. 8.
- Лисовский В. Г. Поиск «национального стиля» в русской архитектуре XIX -началаХХ в.//Проблемы истории советской архитектуры. М., 1978. № 4.
- Лисовский В. Г. Публикация результатов исследований памятников древнерусскогозодчества Академии художеств//Охраняется государством. СПб., 1994. Вып. 5. Ч. 2.
- Маковский С. К. Страницы художественной критики. Кн. 2: Современные русскиехудожники. СПб., 1909.
- Мартынов А. А., Снегирев И. М. Максютин П. М. Русская старина в памятниках цер-ковного и гражданского зодчества. М., 1846-1859.
- Мартынов А. А., Снегирев И. М. Русские достопамятности. М., 1863-1866. Вып. 1-15.
- Михайлов А. И. Жизнь и творчество//Архитектор В. П. Стасов. Материалы к изуче-нию творчества. М., 1950.
- Памятники архитектуры в дореволюционной России/под ред. А. Л. Баталова,А. С. Щенкова. М., 2002.
- Пономаренко Е. В. Архитектура церквей Новолинейного района на ЮжномУрале//Архитектурное наследство. М.; СПб., 2014. Вып. 61.
- Рихтер Ф. Ф. Памятники древнего русского зодчества. М., 1850-1856. Вып. 1-5.
- Ростиславов А. А. Ренессанс русской церковной архитектуры//Аполлон. 1910. № 9.
- Савельев Ю. Р. Искусство историзма и государственный заказ. М., 2008.
- Савельев Ю. Р. Николай Султанов. СПб., 2003; М., 2015.
- Свиязев И. И., Тон К. А. Практические чертежи по устройству церкви Введенияво храм Пресвятыя Богородицы в Семеновском полку в С.-Петербурге. М., 1845.
- Славина Т. А. Исследователи русского зодчества. Русская историко-архитектурнаянаука XVIII -начала XX в. Л., 1983.
- Славина Т. А. Константин Тон. Л., 1982; Л., 1989; М., 2016. Т. 1, 2.
- Славина Т. А. Форма или принцип?//Архитектурное наследие конца XIX -началаXX века и его роль в современном градостроительстве. Таллин, 1983.
- Стасов В. В. А. М. Горностаев//Вестник изящных искусств. 1888. Вып. VI.
- Стасов В. В. Избранные сочинения: в 3 т. М., 1952. Т. II.
- Тон К. А. Церкви, сочиненные архитектором Его Императорского Величества профессором архитектуры Императорской академии художеств и членом разных академий Константином Тоном. СПб., 1838.
- Файбисович В. М. Алексей Николаевич Оленин. СПб., 2006.
- Хомутецкий Н. Ф. Архитектура России с середины XIX в. по 1917 г. М.; Л., 1955.
- Хомутецкий Н. Ф. Русское зодчество второй половины XIX -начала XX веков и со-циальная природа советской архитектуры//Научные труды ЛИСИ. Вып. 10. Архитектурный факультет. М.; Л., 1950. С. 37-50.
- Шевченко Т. Г. Повне зiбрання творiв. К., 2003. Т. 5.
- Шульгина Д. П. Региональные особенности архитектуры эклектики в российскойпровинции. М., 2010.
- Щенков А. С. О художественных проблемах храмостроения рубежа XIX и ХХвеков//Архитектурное наследство. М., 2005. Вып. 45.
- Щусев А. В. Мысли о свободе творчества в религиозной архитектуре//Зодчий. 1905.№ 4.
- Шульгина Д. П. Региональные особенности архитектуры эклектики в российской про-винции. М., 2010.
- Пономаренко Е. В. Архитектура церквей Новолинейного района на Южном Урале//Архитектурное наследство. М.; СПб., 2014. Вып. 61.
- Кириков Б.М.: Памятники истории и культурыСанкт-Петербурга. СПб., 2002. Вып. 6. С. 244-253.