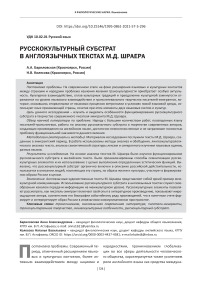Русскокультурный субстрат в англоязычных текстах М.Д. Шраера
Автор: Бариловская Анна Александровна, Колесова Наталья Васильевна
Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu
Рубрика: Педагогическая психология
Статья в выпуске: 3 (57), 2021 года.
Бесплатный доступ
Постановка проблемы. На современном этапе на фоне расширения языковых и культурных контактов между странами и народами проблема изучения явления транскультурности приобретает особую актуальность. Культурное взаимодействие, сплав культурных традиций и преодоление культурной замкнутости отражаются на уровне языкового взаимодействия и транслингвального творчества писателей-эмигрантов, которые, оказавшись оторванными от языковых процессов метрополии в условиях новой языковой среды, используют язык принимающей страны, сочетая при этом элементы двух языковых систем и культур. Цель данного исследования - изучить и выделить особенности функционирования русскокультурного субстрата в творчестве современного писателя-эмигранта М.Д. Шраера. Обзор научной литературы по проблеме. Наряду с большим количеством работ, посвященных языку писателей-транслингвов, работы по анализу русскоязычного субстрата в творчестве современных авторов, создающих произведения на английском языке, достаточно немногочисленные и не затрагивают полностью проблему функциональной значимости данного явления. Методология (материалы и методы). Материалом исследования послужили тексты М.Д. Шраера, созданные в эмигрантский период. В работе использованы методы анализа и обобщения, лингвокультурологического анализа текста, анализа семантической структуры лексем и синхронного изучения языковых единиц разных языков. Результаты исследования. На основе анализа текстов М. Шраера было изучено функционирование русскоязычного субстрата в английском тексте. Были проанализированы способы семантизации русско-культурных элементов и их использование с целью выполнения определенных эстетических функций. Выявлено, что русскокультурный субстрат органично включен в описание российской действительности, используется в описании людей, населяющих эту страну, их образа жизни и культуры, участвует в формировании образа России в целом. Заключение. Англоязычные художественные тексты М. Шраера представляют собой яркий пример межкультурной коммуникации. Использование русскокультурного субстрата в англоязычных текстах служит своеобразным каналом передачи информации на межкультурном уровне. Русскокультурные элементы позволяют рассмотреть, как писатель-эмигрант включает свой опыт в литературное произведение, показывают мироощущение автора, соответствие его биографии событийному ряду произведений, что в конечном счете формирует и интерпретирует образ России в иноязычном коммуникативном пространстве.
Транслингвизм, англоязычная современная литература, писатели-эмигранты, транскультуральное творчество, лингвокультурные особенности, русскокультурный субстрат
Короткий адрес: https://sciup.org/144161936
IDR: 144161936 | DOI: 10.25146/1995-0861-2021-57-3-296
Текст научной статьи Русскокультурный субстрат в англоязычных текстах М.Д. Шраера
DOI:
Колесова Наталья Васильевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры английского языка, КГПУ им. В.П. Астафьева; ORCID ID: ;
Постановка проблемы. Современный период, отмеченный расширением языковых и культурных контактов, более активным взаимодействием между нациями и народностями, проникновением глобализации во все сферы деятельности человеческого общества, характеризуется также усилением роли английского языка как средства междуна- родного общения, следствием чего стало распространение явления мультикультурности или транскультурности.
Свое выражение мультикультурность находит в литературном творчестве, когда появляются произведения, созданные на неродном языке писателями билингвами или транслингвами. На современном этапе неродным языком для транскультурной креативности писателя становится преимущественно английский язык, выступая в то же время средством передачи лингвокультурной идентичности того или иного этноса.
Целью данного исследования является анализ употребления русскокультурного субстрата в англоязычных текстах современного писателя-эмигранта М. Шраера. Максим Шраер принадлежит к новому типу писателей-билингвов, которые обращаются в своем творчестве к иностранному языку, тем самым значительно расширяя читательскую аудиторию, сохраняя в то же время родную культуру.
Обзор научной литературы по проблеме. Интерес к теме литературно-художественного билингвизма в различных аспектах подчеркивается растущим числом публикаций [Андреева, 2009; Бариловская, Колесова, 2020; Вишневская, 2012; Оршанская, 2008; Ширин, 2006; Canagarijah, 2019; Karnaukhova, 2014; Valikova, Demchenko, 2018; 2020; Yuzefovich, 2011]. Анализируется связь билингвизма с литературой и историей [Liu, 1995; Petersson, 2012; Phillips, 2009], феномен художественного билингвизма изучается как с точки зрения индивидуального опыта [Лавриненко, 2016; Хугаев, 2009; Kravtsov, Chernossitova, Maximets, 2020; Sellin, 2013; Allan, 2017; Zempel, 1980], так и с точки зрения анализа основных тенденций развития национальной литературы [Базиева, 2020; Валеева, 2008; Kellman, 2000; Kivisto, 2008].
В этой связи особый интерес представляет творчество писателей-эмигрантов, которые обращаются в своем творчестве к английскому как второму языку вследствие сознательного выбора, обусловленного поиском более широкого круга читателей. Будучи погруженны- ми в иноязычную культурную и языковую среду и оторванными из-за эмиграции от языковых процессов метрополии, писатели-эмигранты становятся носителями совершенно особенной интеркультурной картины мира, сочетающей образы двух культур и оформленной средствами неродного языка.
Примером писателя с двойной культурной идентичностью можно считать Максима Д. Шраера, который известен как литературовед, переводчик, писатель, профессор Бостонского колледжа. Он родился и получил образование в Москве, после эмигрировал в Соединенные Штаты Америки.
Можно считать, что М. Шраер принадлежит к двум культурным традициям, он свободно владеет английским языком, создает книги на русском и английском языках. Его работы публикуются в США, они являются источником уникального материала, поскольку отражают опыт жизни в эмиграции.
Культурное воздействие иной страны, опыт жизни в эмиграции значительно повлияли на мировоззрение и творчество М. Шраера, определили тематику, проблематику и место действия его романов. В его текстах зачастую прослеживаются автобиографические моменты, автор обращается к проблеме эмиграции, оценивает ту роль, которую эмиграция сыграла в его жизни, он поднимает еврейский вопрос, пишет о вере в жизнь и любовь.
Эмигрантские романы М. Шраера можно рассматривать как отдельную часть его творчества. Автор вспоминает прошлое, описывает жизнь в Советском Союзе, свое детство, взаимоотношения со сверстниками.
Несмотря на то что автор перешел на английский язык, русская тема остается для него одной из самых важных, он не забывает о своих русских корнях, русской культуре.
Методология (материалы и методы). Исследование проводилось на материале текстов М.Д. Шраера, написанных в период эмиграции. Методами исследования послужили анализ и обобщение исследований отечественных и зарубежных лингвистов, изучающих вопросы ино-
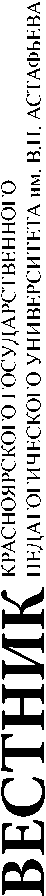
культурного субстрата, транслингвальной литературы в плане лингвокультурологического анализа текста, анализа семантической структуры лексем и синхронного изучения языковых единиц разных языков.
Результаты исследования. Анализ английских текстов М. Шраера эмигрантского периода обнаруживает присутствие русскокультурно-го субстрата, российского литературного и исторического наследия, ценностных установок.
Смысловая нагрузка русскокультурного субстрата в текстах варьирует от номинации предметов и явлений действительности, придания определенной атмосферы повествованию до индивидуализации речи персонажей и создания речевого портрета.
Создавая свои произведения на английском языке, автор передает первичную художественную картину мира во вторичной языковой системе, при этом описывая советскую действительность М. Шраер использует русскокультурный субстрат для номинации советских реалий своего детства, которые воспроизводят местный колорит, являются своеобразными социокультурными маркерами.
Присутствие русскоязычного субстрата в английских текстах М. Шраера обусловлено не только потребностью в отображении реалий и быта советской действительности, но и лакунарностью понятий, невозможностью подобрать соответствующий английский эквивалент.
Так, русскоязычная лексема «глушилки» – устройства для подавления радиосигналов при прослушивании Голоса Америки, используется во вторичной языковой системе для передачи реалий советской жизни и эксплицируется далее английским эквивалентом ‘deafeners’ и описательным оборотом: «the signal was usually obstructed by glushilki (“deafeners”) Soviet scrambling devices» (Schrayer, 2013, p. 18).
Частичные вкрапления, в определенной степени ассимилированные, но сохранившие фонетические и морфологические особенности языка субстрата, используются в основном в национально-культурной функции при описании быта, культуры и самих носителей языка:
«herring, a salad of shaved white radish with fried onions , and also a dish of chopped liver with hard boiled eggs are the zakuski» (Schrayer, 2013, p. 41) – транслитерированная русскоязычная реалия zakuski без четкой экспликации сопровождается в тексте описательным оборотом «салат из белой редиски с обжаренным луком, печень с отварными яйцами, которые в русской культуре представляют собой закуски».
В другом случае эта лексема используется в описании детских воспоминаний и ассоциаций автора, когда он размышляет о визите к старому другу, которого обычно заставал в своей берлоге, играющим в карты с двумя другими друзьями, выпивающими водку, курящего и угощающего свою компанию закусками, обильно представленными на столе: «One of my strongest memories of him is coming to visit him as a child and finding him in his den playing cards with two old friends drinking vodka, smoking and treating his company and himself to the abundant zakuski crowding the side of the table» (Schrayer, 2013, p. 275).
Русскокультурный субстрат активно используется автором в описании персонажей, образов, ассоциативных связей: успешность понимания русскокультурного элемента определяется насыщенностью контекста семантической информацией:
«The cabby lit another one of his vile papirosy» (Schrayer, 2013, p. 17); «…a hateful poem about him titled “To the Poet who Abandoned his Motherland” appeared in one of the biggest Soviet dailies… Komsomolskaya Pravda (Komsomol Truth) read daily by tens of millions» (Schrayer, 2013, p. 44); «We never owned a dacha. My parents were not the type that desired to squat on a tiny parcel of land with gooseberry shrubs and a shack with a corrugated roof surrounded by hundreds of other dusty dachas and thousands of Soviet men and women. The summer of 1969 was the last one we would spend as dachniki outside Moscow» (Schray-er, 2013, p. 9). Характерно, что, несмотря на номинативную функцию русскоязычных языковых элементов в тексте, они во всех случаях несут негативную окраску и передают отрицательное отношение автора: vile papirosi - смрадные, отвратительные папиросы, которые курит водитель такси, в Комсомольской правде (Komsomolskaya Pravda (Komsomol Truth), газете, читаемой десятками миллионов, появляется полная ненависти статья о поэте, который покинул свою родину, dacha, реальность советского и российского быта, описывается как крошечный участок земли с кустами крыжовника и хижиной со сморщенной крышей, окруженный сотнями других пыльных дач.
Русскоязычное заимствование dacha можно считать словарным в английском языке, однако автор выделяет его курсивом как окказиональную единицу, поясняя его значение комментариями.
Подобное представление культурноконнотативных элементов позволяет не только называть предметы и явления, отсутствующие в английском языке, но и дополнительно передавать собственную оценку, создавать определенную атмосферу. Стилистически нейтральные русскокультурные лексемы приобретают отрицательные оценочные коннотации в контексте, автор не может не передать собственные отрицательные чувства, обиду, горечь, которые он испытывает, когда речь идет о его Родине.
Болезненными выглядят воспоминания о защите докторской диссертации отца автора Давида Шраера. Простая формальность защиты известного своими разработками ученого затянулась на два долгих года из-за бюрократической волокиты, что, по мысли автора, связано с распространенным в академической среде антисемитизмом: The process of conferring the degree by the VAK (acronym of the Higher Attestation Commission) was expected to be a mere formality but became mired at antisemitism making itself as bureaucracy (Schrayer, 2013, p. 31). Автор использует вкрапление VAK в орфографии языка субстрата для номинации Высшей аттестационной комиссии, комментируя значение акронима в тексте.
Наиболее значимые номинации используются в тексте неоднократно, что подчеркивает важность данного понятия для автора и дает возможность более полно охарактеризовать его. Такова, например, русскоязычная лексема ‘zhid’, адаптированная к графике английского языка.
Чувством обиды и уязвленного достоинства пронизаны строки о детских годах, когда еще ребенком в детском саду М. Шраер узнал слово «жид»: And already in the kindergarten there were first direct contacts with the word zhid («Kike», «Yid» and «Hebe» combined). The word would spring off the tongues of the Russian boys, mostly boys, because girls at that age baited less with words (Schrayer, 2013, p. 12). М. Шраер отмечает, что слово «жид/еврей» в основном соскакивало с языков мальчиков, девочки в этом возрасте менее склонны обидеть словами. Лексема «жид» в русском языке обладает ярко выраженной эмоциональной окраской, передает оттенок пренебрежения и оскорбления, направлена на унижение адресата. Автору удалось передать весь отрицательный спектр значений русскоязычного субстрата и собственные чувства с помощью контекста и комментариев.
В другом случае автор вспоминает эпизод на уроке музыки, когда произведение М. Мусоргского «Два еврея, богатый и бедный» вызвало всеобщий хохот учеников, оно воспринималось как нечто оскорбительное, грязное, насмешливое: My classmates were laughing because to many of the word «Jew», not even zhid but Jew had the ring of something insulting, dirty and laughable like a flavorful swear word. And now the teacher herself had used it (Schrayer, 2013, p. 18). Противопоставление в контексте «еврей, даже не жид» синонимических лексем только подчеркивает задетые чувства и обиду.
М. Шраер отмечает, что случаи употребления слова «жид» в его адрес всегда вызывали
дикое чувство мести: «I can still remember that wild feeling of revenge that would possess me when I heard the word zhid directed at me or blabbed behind my back» (Schrayer, 2013, p. 19).
Русскоязычные вкрапления в рассмотренных выше случаях являются ключевыми в описании российских реалий, они не только используются в целях номинации предметов и событийной информации, но и передают авторскую оценку и видение мира, оскорбленные чувства.
Еще один пример использования русско-культурного субстрата в орфографии языка источника представлен в романе Leaving Russia, когда автор рассказывает о том, как получил записку от «To the Jew from the Russians (“ evreiu ot russkikh ”) was scribbled in Russian on the front of the folded sheet» (Schrayer, 2013, p. 12).
Наряду с прямым переводом выражения «To the Jew from the Russians», автор приводит русский эквивалент, представленный в графике принимающего языка (« evreiu ot russkikh »), что актуализирует место действия и показывает ориентацию на русскоязычных читателей и подчеркивает чувство национальной розни и отчужденности, которое он пережил.
Грубость чиновника в отделе эмиграции также передана в английской графике: «In Russian he literally said “And you will fly out of here” (i vy otsyuda vyletite)» (Schrayer, 2017, p. 16).
Одним из способов семантизации русско-культурного субстрата в тексте является раскрытие внутренней формы слова. Так, в романе Waiting for America автор инкорпорирует в текст разговорный дериват ‘refusenik’ и комментирует его с помощью образованной по аналогии транслитерированной русскоязычной лексемы ‘otkaznik’, использующейся для номинации евреев, которым было отказано в эмиграции: The Soviet imagination had dubbed us as otkazniki (from the Russian otkaz ‘refusal’) meaning the ones who were denied or refused permission to leave the Soviet Union. In translation the term ‘refusenik’ had acquired an ambiguity whose irony was hardly intentioned: the Soviet authorities not the Jews were refusing, unless, of course, you consider the fact that we, the refuseniks, had refused the ticket to Soviet paradise (Schrayer, 2017, p. 5).
Автор подчеркивает непреднамеренную иронию английской лексемы: отказ в эмиграции осуществляли органы власти, а не евреи, сами же отказники отказывались только от советской райской жизни.
Вполне обоснованным выглядит в тексте использование русских вкраплений ‘mamochka’, ‘vy’, ‘ty’ для индивидуализации речи персонажей. Герои романов М. Шраера говорят по-русски, поскольку место действия, тематика и сюжет произведения допускают использование в текстах вкраплений: Mamochka, I started the sentence but stopped (Waiting for America, p. 66). He addressed seven-year-olds with the formal pronoun ‘vy’ (instead of informal ‘ty’ that was standard in the teachers’ interactions with (Schrayer, 2013, p. 19). Данное словоупотребление можно объяснить национальностью персонажей и ориентацией автора на русскую культуру и русскоязычного читателя.
Заключение. Проведенный анализ показал, что англоязычные художественные тексты М. Шраера представляют собой яркий пример межкультурной коммуникации. Использование русскоязычного субстрата в текстах писателя позволяет передать информацию на межкультурном уровне. Подобное словоупотребление соответствует особенностям идиостиля писателя-билингва, обусловленного его двуязычием, и используется в соответствии со стилистическими установками.
Русскокультурные элементы в англоязычном тексте передают эмоциональную оценку говорящего, его мировоззренческую позицию, называют реалии русской культуры, формируют и интерпретирует образ России в иноязычном коммуникативном пространстве.
Список литературы Русскокультурный субстрат в англоязычных текстах М.Д. Шраера
- Андреева С.В. Билингвизм и его аспекты // Ученые записки Забайкальского государственного университета. Сер.: Филология, история, востоковедение 2009. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/bilingvizm-i-ego-aspekty/viewer
- Базиева Г.Д. Билингвизм и проблемы межкультурной коммуникации // Colloquium-journal. 2020. № 6 (58). Голопристанський міськрайонний центр зайнятості. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/bilingvizm-i-problemy-mezhkulturnoy-kommunikatsii-1/viewer
- Бариловская А.А., Колесова Н.В. Языковая игра в аспекте транслингвизма // Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева. 2020. № 3 (53). С. 196–202. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_36667108_62006204.pdf
- Валеева Н.Г. Билингвизм и интерференция при опосредованной коммуникации // Полилингвиальность и транскультурные практики. 2008. № (5). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/bilingvizm-i-interferentsiya-pri-oposredovannoy-kommunikatsii/viewer
- Вишневская Г.М. Литературно-художественный билингвизм: лингвистическая интерпретация // Международный журнал экспериментального образования. 2012. № 2. С. 90–91. URL: https://old.irorb.ru/files/magazineIRO/2013april/8.pdf
- Лавриненко Л.С. Художественный билингвизм в творчестве Шарлотты Бронте на примере романа «Джейн Эйр» // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2016. № 4-3 (58). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/hudozhestvennyy-bilingvizm-v-tvorchestve-sharlotty-brontena-primere-romana-dzheyn-eyr
- Оршанская Е.Г. Лингвистический и социолингвистический подходы к изучению проблемы билингвизма // Вестник Челябинского государственного университета. 2008. № 21. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/lingvisticheskiy-i-sotsiolingvisticheskiy-podhody-k-izucheniyu-problemybilingvizma/viewer
- Хугаев И.С. О природе осетинской литературы с точки зрения теории билингвизма и транслингвизма // Russian Journal of Linguistics. 2009. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-prirodeosetinskoy-literatury-s-tochki-zreniya-teorii-bilingvizma-i-translingvizma
- Ширин А.Г. Билингвизм: поиск подходов к исследованию в отечественной и зарубежной науке // Вестник Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого. 2006. № 36. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/bilingvizm-poisk-podhodov-k-issledovaniyu-v-otechestvennoy-izarubezhnoy-nauke
- Шраер М. «Я – американский продукт русской культуры и еврейской истории». 2011. URL: http://sarreg.ru/maksim-d-shraer-ya-amerikanskij-produkt-russkoj-kultury-i-evrejskoj-istorii-44975.html
- Allan M. Scattered Letters: Translingual Poetics in Assia Djebar’s L’Amour, la fantasia // Philological Encounters. 2017. Is. 2 (1–2). P. 180–198. URL: https://brill.com/view/journals/phen/2/1-2/articlep180_10.xml
- Canagarajah S. Transnational literacy autobiographies as translingual writing. Routledge, 2019. URL: https://books.google.ru/books?hl =ru&lr=&id=OTuhDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=P
- Darcy N.T. A review of the literature on the effects of bilingualism upon the measurement of intelligence // The Pedagogical Seminary and Journal of Genetic Psychology. 1953. Is. 82 (1). P. 21–57. URL: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08856559. 1953.10533654
- Karnaukhova O. Discourse of Belonging in Russian Multiculturalism: Colonial/Postcolonial Dimensions. In: Negotiating Boundaries in Multicultural Societies. Brill. 2014. P. 173–186. URL: https://brill.com/view/book/edcoll/9781848882720/BP000010.xml
- Kellman S.G. The translingual imagination. U of Nebraska Press, 2000. URL: https://books.google.ru/books?hl=ru&lr=&id=2jp0xviQY9IC&oi=fnd&pg=PR7&dq=The+translingual+imagination
- Kivisto P. Multiculturalism in a global society. John Wiley & Sons. 2008. URL: https://books.google.ru/books?hl=ru&lr=&id=1AuRZzuF0tsC&oi
- Kravtsov S.M., Chernossitova T.L., Maximets S.V. Metabola creation ways in a translingual text (based on French fiction) // Scientific Journal Modern Linguistic and Methodical-and-Didactic Researches.2020. Is. (2). P. 67–74. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_43317600_38728921.pdf
- Liu L.H. Translingual practice: Literature, national culture, and translated modernity--China, 1900–1937. Stanford University Press, 1995. URL: https://books.google.ru/books?hl=ru&lr=&id=h5e8Za8sEJAC&oi=fnd&pg=PR15
- Petersson M. The Practice of Writing Transnational and Translingual Literary History. In: Studying Transcultural Literary History. De Gruyter, 2012. P. 155–157. URL: https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110920550. 155/html
- Phillips A. Multiculturalism without culture. Princeton University Press, 2009. URL: https://www.degruyter.com/document/doi/ 10.1515/9781400827732/html
- Sellin E. Translingual and transcultural patterns in Francophone literature of the Maghreb. In: Transcultural identities in contemporary literature. Brill, 2013. P. 223–244. URL: https://brill.com/view/book/9789401209878/ B9789401209878-s012.xml
- Valikova O., Demchenko A. Immersion Into Translingual Literary Text. In: Proceedings of the 5th International Multidisciplinary Scientific Conference On Social Sciences and Arts. Sgem, 2018. P. 495–502. URL: https://sgemsocial.org/ssgemlib/spip.php?article6896&lang=en
- Valikova O.A., Demchenko A.S. Translingual Literary Text: on Problem of Understanding // Polylinguality and Transcultural Practices. 2020. Is. 17 (3). P. 352–362. DOI: https://doi.org/10.22363/2618-897X-2020-17-3-352-362
- Yuzefovich N. Foreign Linguo-Cultural Substrate in the Translingual Literature: Problem Statement // Limbaj si Context. 2011. Is. 3 (2). P. 235. URL: https://www.proquest.com/openview/835923126c94b9951b3c0671db54e10e/1?pq-origsite=gscholar&cbl=1036346
- Zempel S.P.T. Language use in the novels of Johannes B. Wist: A study of bilingualism in Literature (Doctoral dissertation, University of Minnesota, 1980). URL: https://www.proquest.com/openview/f1fd0e353393852cdee4a819b15ff97a