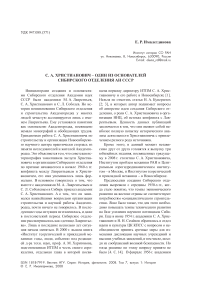С. А. Христианович - один из основателей Сибирского отделения АН СССР
Автор: Ималетдинова Е.Р.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Сообщения
Статья в выпуске: 1 т.7, 2008 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14736929
IDR: 14736929 | УДК: 947.088.(571)
Текст краткого сообщения С. А. Христианович - один из основателей Сибирского отделения АН СССР
Инициаторами создания и основателями Сибирского отделения Академии наук СССР были академики М. А. Лаврентьев, С. А. Христианович и С. Л. Соболев. Но история возникновения Сибирского отделения и строительства Академгородка у многих людей зачастую ассоциируется лишь с именем Лаврентьева. Ему установлен памятник как основателю Академгородка, посвящено немало монографий и обобщающих трудов. Грандиозная работа С. А. Христиановича по строительству и организации Новосибирского научного центра практически стерлась из памяти исследователей и жителей Академгородка. Это объясняется тем, что советская историография замалчивала заслуги Христиановича в организации Сибирского отделения по причине начавшегося в начале 1960-х гг. конфликта между Лаврентьевым и Христиановичем, его имя упоминалось лишь формально. В основном говорилось о том, что вместе с академиками М. А. Лаврентьевым и С. Л. Соболевым в Сибирь приехал академик С. А. Христианович. А о том, что он занимался важнейшими вопросами организации строительства и научной работы Академгородка, почти ничего не говорилось. В последующие годы ситуация не изменилась, и даже в постсоветский период Сибирское отделение рассматривалось как «детище Лаврентьева». Лишь в последние несколько лет ситуация начала меняться. В 2000 г. вышла книга «Институт теоретической и прикладной механики: годы, люди, события» под редакцией д-ра техн. наук, проф. А. М. Харитонова, подготовленная ИТПМ в честь своего сорокалетия, отдельная глава в которой посвя- щена первому директору ИТПМ С. А. Христиановичу и его работе в Новосибирске [1]. Нельзя не отметить статьи Н. А. Куперштох [2; 3], в которых автор поднимает вопросы об авторстве идеи создания Сибирского отделения, о роли С. А. Христиановича в организации ННЦ, об истоках конфликта с Лаврентьевым. Ценность данных публикаций заключается в том, что они являют собой наиболее полную попытку исторического анализа деятельности Христиановича с привлечением разного рода источников.
Кроме этого, в данный момент независимо друг от друга готовятся к выпуску три юбилейных издания, посвященных грядущему в 2008 г. столетию С. А. Христиановича, Институтом проблем механики РАН и Центральным аэрогидродинамическим институтом – в Москве, и Институтом теоретической и прикладной механики - в Новосибирске.
Предпосылки создания Сибирского отделения вызревали с середины 1950-х гг., когда стало понятно, что темпы экономического развития на востоке страны не соответствуют потребностям «социалистического строительства». Ясно было также, что для этого необходимо повышать темпы технического развития на базе усиления научного потенциала Сибири. Еще в июне 1954 г. академики С. А. Христианович и Н. Н. Семёнов обратились в отдел науки и культуры ЦК КПСС с вопросом о необходимости принять срочные меры для изменения дислокации научных учреждений и высших учебных заведений, в том числе, исходя из соображений военной безопасности. Но тогда решение по этому вопросу принято не было [4. С. 14]. В феврале 1956 г. академики
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2008. Том 7, выпуск 1: История © Е. Р. Ималетдинова, 2008
Лаврентьев, Христианович и Лебедев опубликовали в «Правде» статью «Назревшие задачи организации научной работы», где предложили перераспределить сеть научных учреждений страны, отмечая их слишком сильную сосредоточенность в центрах 1. Позже, в апреле 1957 г. Лаврентьев и Христианович снова подняли этот вопрос в «Правде» в статье «Важное условие развития науки: «…Создание научной базы на Востоке не может быть решено только путем эволюционного развития филиалов Академии Наук СССР. Необходимо туда перенести крупные, хорошо зарекомендовавшие себя научные коллективы из Москвы и Ленинграда… Вопрос о рассредоточении научных учреждений, о создании научных центров на востоке страны назрел. Его нужно решать скоро и в больших масштабах. Вложенные в это дело деньги оправдают себя очень быстро» 2.
Кому конкретно принадлежала идея создания Сибирского отделения, неясно. М. А. Лаврентьев в своих воспоминания пишет, что у него «постепенно созревала идея научного десанта – переезда в Сибирь большой группы ученых и организации там нового научного центра. Своими мыслями, – отмечает он – я делился с С. А. Христиановичем и С. Л. Соболевым…» [5. С. 11]. А вот вдова Христиановича Татьяна Николаевна Ат-карская вспоминает: «В 1956 г. начались тревожные события в Венгрии, опять запахло войной. Как-то к нам зашел сосед (дело происходило на даче, где академики были соседями. – Е. И. ) – академик М. А. Лаврентьев, и Сергей Алексеевич поделился с ним волнующими его мыслями о сосредоточении почти всех научных институтов в Москве и Ленинграде: парочка хороших ракет и науки в стране не будет. Разговор затянулся, обоим было ясно, что нужны научные центры в глубине страны…» [6. С. 14]. Такого же мнения придерживается и жена М. А. Лаврентьева, Вера Евгеньевна: «Мы жили рядом с Христиановичами, дружба была хорошая. Сергей Алексеевич как-то заметил: “Что же это получается: вся наука сконцентрирована в Москве? Ведь это может кончиться драматично”. С этого все и началось. Это была идея Христиановича – рассредоточить науку. Это ему пришло в голову…» [7. С. 342].
Некоторая часть научной общественности, в том числе и сотрудников ИТПМ, разделяют версию, в соответствии с которой авторами идеи создания Сибирского отделения были Христианович и Соболев, и что они привлекли к делу Лаврентьева, учитывая его контакт с властями. Лаврентьев уже имел необходимый опыт общения с высшими партийными инстанциями, а главное, с самим Хрущёвым, что и позволило им добиться его аудиенции.
Так или иначе, единоличного автора идеи выявить сложно. Как выразился один из сотрудников ИТПМ, доктор техн. наук С. С. Кацнельсон: «Кто сказал “А” это уже не суть важно» 3. Возможно, эта мысль созревала в нескольких головах, главное то, что выразителями ее стали известные на весь мир ученые, авторитет которых вдохновил многих людей науки последовать за ними в Сибирь.
Интересно, что вопреки существующему мнению, Сергей Алексеевич, продвигая идею создания Сибирского отделения, изначально не собирался ехать туда сам. Он занимался тогда ядерной тематикой. Он говорит об этом в интервью 1998 г., посвященном восьмидесятилетнему юбилею ЦАГИ: «Я туда не собирался ехать. Наши вели испытания атомного оружия. Я отвечал за безопасность окружающей среды от ударной волны. Был в составе испытательной комиссии... Я сидел на этом полигоне, в Казахстане, в совершенно секретном городке… В Академгородок я попал как “кур в ощип”… Кагэбэшники принимали из Венгрии сообщения. Там что-то назревало. Опять война? Я приехал к Лаврентьеву – чего делать? Дачи наши были рядом. Друзьями были. Конечно, все это была глупость, ничего такого случиться не могло. Ну а вдруг?… Под Новосибирском или Иркутском – это было бы практически недосягаемым. Можно двумя взрывами лишить страну всего научного потенциала. Надо иметь научный центр в Сибири. “Мы обсудим это дело, но только вы вдвоем займитесь этим” (имеются в виду слова Н. С. Хрущёва. – Е. И. ). Вот – не надо придумывать и предлагать – себе на шею… как говорится» 4.
В результате академики, отправившись к Хрущёву, явились инициаторами нового грандиозного проекта. Предложение ученых заинтересовало правительство. К тому же курс на форсированное освоение восточных районов был взят на XX съезде КПСС, на котором было решено расширять масштабы вовлечения в хозяйственный оборот природных ресурсов на востоке страны, а также ускоренно развивать здесь электроэнергетику, металлургию, машиностроение и т. д. Это также закреплялось постановлением общего собрания Академии наук СССР от 2 ноября 1957 г. 5 18 мая 1957 г. Президиум ЦК КПСС принял постановление «О создании Сибирского отделения Академии наук СССР». В тот же день оно было воспроизведено в соответствующем постановлении Совета министров СССР: «П.1. Одобрить предложение академиков Лаврентьева и Христиановича о создании в Сибири мощного научного центра» 6. В этом же постановлении одним из пунктов было создание для проведения подготовительной работы по организации СО АН СССР оргкомитета в составе Лаврентьева, Христиановича, Соболева и др., а также утверждение заместителем председателя оргкомитета и руководителя Сибирского отделения М. А. Лаврентьева – С. А. Христиановича 7.
В связи с этим замыслом в прессе появилось множество статей и заметок о будущем научном центре в Сибири. Одна из первых публикаций такого рода была написана Христиановичем. Она появилась в декабре 1957 г. в газете «Советская Сибирь», в ней подчеркивалось, что «Сибирское отделение… – первое отделение, создаваемое по территориальному признаку. Уже это одно говорит об его исключительно важной роли в жизни нашей страны» 8. Здесь отмечалась давно назревшая потребность перенести многие научные учреждения поближе к промышленным центрам, к районам нового строительства и новых изысканий, а также говорилось о том, что будет построен университет, базой для которого станут научно-исследовательские институты отделения. Вслед за этой заметкой появилась публикация
«Сибирский центр науки» в «Правде». В ней Христианович сделал вывод: «Развитие народного хозяйства невозможно без внедрения новой техники, а создание новой техники невозможно без участия науки. Именно это явилось одной из главных причин организации Сибирского отделения Академии наук СССР» 9.
С. А. Христианович занимался вопросами организации проектирования и строительства объектов СО АН, причем не только в Новосибирске, но и в Красноярске, Иркутске, Якутске, Улан-Удэ, Владивостоке, Магадане, на Камчатке [8. С. 80].
Важными представляются воспоминания заместителя председателя Сибирского отделения по производственным и техническим вопросам Б. В. Белянина. Он говорит, что эта деятельность отнимала у Христиановича много времени и сил, так как ему нужно было заниматься сразу многими делами: подбирать кадры, определять участки для строительства, для чего приходилось выезжать на места и т. д. Сергей Алексеевич принимал непосредственное участие в разработке генерального плана создания научных городков. Белянин подчеркивает, что хотя и другие члены президиума Сибирского отделения играли весьма важную роль в этом процессе, основная подготовительная работа осуществлялась С. А. Христиановичем [Там же. С. 81].
Сергей Алексеевич отвечал за строительство зданий институтов, жилья, всей инфраструктуры будущего городка, вопросами транспортного сообщения Академгородка с центральными районами Новосибирска. Необходимо было контролировать поставку строителям оборудования для монтажа институтов, вести кадровую политику, а также следить за необходимой документацией.
В процессе создания Академгородка возникало немало проблем. Основные трудности были связаны с недостаточной мощностью строительных организаций. Трудности были и с финансовыми вопросами, но не столько в плане нехватки средств – денег выдавалось столько, сколько было необходимо, – а сколько в том, что нужно было все оформлять документально, и вкладывать выделенные средства своевременно 10, так как вов- ремя неосвоенные инвестиции необходимо было возвращать государству. Эти вопросы были также в поле зрения С. А. Христиановича. Бывший сотрудник Института катализа СО РАН канд. хим. наук Л. А. Сазонов, оценивая роль Сергея Алексеевича в создании ННЦ, в своих воспоминаниях отмечает: «Без него, я думаю, строительство удлинилось бы лет на пять, что привело бы к размыванию научных идей и кадров» [9. С. 217].
Во время посещения Н. С. Хрущёвым Академгородка в октябре 1959 г. именно Сергей Алексеевич знакомил его с проектом строительства научного городка, показывал расположение научно-исследовательских институтов, лабораторных корпусов и т. д. Известно, что Н. С. Хрущёв подверг этот проект свойственной ему эмоциональной критике, указав, к примеру, на то, что в Сибири с ее просторами неуместно строить высотные здания, «подражая американцам».
Наряду с организацией строительства СО АН СССР С. А. Христианович был занят научным строительством, т. е. был одним из главных научных руководителей Сибирского отделения, занимался подбором кадров, определением тематики исследований 11.
Главным детищем С. А. Христиановича в Сибири был Институт теоретической и прикладной механики. Постановлением Президиума Академии наук СССР от 21 мая 1957 г. академик Христианович был утвержден в качестве директора ИТПМ. Были утверждены и основные направления будущей работы института (причем не директор подбирался к институту, а тематика работ была связана, прежде всего, с интересами и возможностями его директора [10. С. 123]).
С. А. Христианович создал современный академический институт с взаимосвязанными научными направлениями и тесной связью между фундаментальными и прикладными направлениями механики. Это отражено в самом названии института и определяет специфику проводимых исследований, включающую фундаментальный подход к решению прикладных проблем и использование теоретических достижений в практических приложениях [1. С. 68].
Одним из основных научных направлений, которыми занимался С. А. Христианович в Сибири, была работа над проектом создания мощной энергетической экологически чистой парогазовой установки (ПГУ). Сергей Алексеевич принялся продвигать идею в жизнь со свойственными ему темпераментом и энергией. История работ над созданием парогазовой установки в нашей стране очень сложна и, можно сказать, драматична. На первых порах новая технология была поддержана некоторыми энергетиками и правительством. Поначалу лаборатория располагалась в ЦАГИ, а затем в Институте химической физики АН СССР. В сентябре 1959 г. она переехала в новосибирский Академгородок [Там же], где сначала находилась в Институте химической кинетики и горения, а с 1960 г. – в ИТПМ.
К сожалению, работы по ПГУ так и не были реализованы. Несмотря на поддержку некоторых руководителей в области энергетики 12, трудности, с которыми пришлось столкнуться ученым, работавшим над созданием парогазовой установки по схеме С. А. Христиановича, и в первую очередь ему самому, оказались непреодолимыми. Главным конкурентом проекта создания ПГУ «по схеме Христиановича» был Центральный котлотурбинный институт им. Ползунова (ЦКТИ), который долгое время разрабатывал свою ПГУ с высоконапорным парогенератором. Дело в том, что в сфере энергетики к тому времени уже сформировались научные школы со своими авторитетами, которые восприняли новую идею в штыки. К тому же Христианович ранее занимался вопросами, связанными в основном с авиацией, горным делом и др., и в области энергетики его явно недооценивали.
В 1965 - 1966 гг. на комплексе модельного стенда ПГУ и установке газификации сернистых мазутов побывали многие эксперты: директор института тепломассообмена – А. В. Лыков, министр энергетики и электрификации СССР – П. С. Непорожний, председатель государственного комитета по науке и технике СМ СССР – В. А. Кириллин, Президент АН СССР - академик М. В. Келдыш [11. С. 120].
Все они давали положительные оценки проделанной работы, но сложно было противостоять консервативной позиции. Ученые, очевидцы тех событий прямо говорят об этом, отмечая огромную зависть со стороны некоторых авторитетных лиц в сфере энергетики. Это касается, главным образом, коллектива ЦКТИ, считавшего, что раз идея не принадлежит им, она не стоит того, чтобы ее разрабатывать. Совершенно справедливо возмущается сотрудник ИТПМ Г. П. Клеменков: «Ну, зачем, например, Ленинградскому металлическому заводу вкладывать свои силы и средства в создание новой необычной установки, если он имел полный портфель заказов на хорошо отработанные паровые турбины» [12. С. 106]. Была налаженная система, которая работала и приносила прибыль заводам, поэтому революционный прорыв никому тогда не был нужен.
Но решающим моментом в истории развития проекта ПГУ можно считать обострение отношений между М. А. Лаврентьевым и С. А. Христиановичем и отъезд последнего из Новосибирского научного центра в Москву, где Сергей Алексеевич продолжил работу над этой тематикой, но в масштабах, не сравнимых с проектом ПГУ в Новосибирске, ведь не стало экспериментальной базы, которую попросту пустили на металлолом.
Последствия торможения этого проекта весьма печальны. Технология ПГУ позже была запатентована в ряде европейских стран и США. В настоящее время это направление считается за рубежом одним из перспективных. В нашей же стране современная ситуация такова, что парогазовых теплоэлектростанций у нас можно пересчитать по пальцам и они были построены в основном на импортном оборудовании 13. Доктор техн. наук, заслуженный энергетик России В. М. Масленников говорит, что в настоящее время под руководством Института высоких температур АН на ТЭЦ-28 создается парогазовая установка по той схеме, которую предлагал С. А. Христианович, и что в ближайший год ее планируют ввести в эксплуатацию 14.
Сейчас на передний план выходят проблемы экологии, и предприятия, следуя экологическим нормам, вынуждены тратить огромные средства на их обеспечение. А парогазовые установки этим условиям соответствовали изначально. Происходит чистое горение (поскольку идет внутрицикловая очистка топлива), и во внешнюю среду выбрасывается только СО2 и Н2О. Поскольку воды требуется во много раз меньше, чем для паротурбинных установок, нет теплового загрязнения рек. И не нужно проводить никаких специальных мероприятий по обеспечению экологии 15.
Можно только представить себе, каким образом этот научный прорыв повлиял бы на развитие Сибирского отделения, города Новосибирска, а соответственно, и Сибири, а также России в целом. Созданная в 1960-х гг. экспериментальная база могла бы и до сих пор работать с пользой в интересах большой энергетики и народного хозяйства страны. Но нового слова в энергетике сказать не дали. И, к сожалению, это не единственный пример действий подобного рода в нашей стране. История знает много примеров, когда идеи, по вполне определенным причинам не реализовавшиеся в России, появляются за рубежом в качестве новаций… Более того, в недавно опубликованном справочном издании по персональному составу СО РАН о грандиозной работе С. А. Христиановича по парогазовым установкам даже не упоминается [13. С. 266 - 267].
Так или иначе, С. А. Христианович был вынужден покинуть Сибирское отделение и уехать в Москву в 1965 г.
Долгое время вопрос о причинах отъезда Христиановича из Новосибирска в литературе не поднималась. Лишь констатировался сам факт. В последние несколько лет исследователи предпринимают попытки разобраться в этом вопросе [2; 3; 14]. Сделать это чрезвычайно сложно, поскольку официальные документы не могут дать полной картины, а источники личного происхождения зачастую отличаются тенденциозностью в интерпретации и оценке фактов.
На заседании партийного бюро ИТПМ от 9 апреля 1965 г. Христианович говорил: «Я уезжаю, потому что болен и врачи советуют изменить климат…» 16. Но на дополнительный вопрос: «Причина ухода?», ответил: «Мне было очень трудно работать здесь, под- держки в СО АН не имел, пока хватало моих физических сил, я работал здесь, а сейчас состояние здоровья ухудшилось…» 17. Очевидно, что дело было вовсе не в состоянии здоровья, а в сложных взаимоотношениях с Председателем СО АН М. А. Лаврентьевым. С большой долей вероятности можно предположить, что подобная ситуация конфликта была предопределена заранее, так как в руководстве Сибирского отделения оказались две очень сильные и яркие личности, которые помимо огромных научных заслуг имели организаторский талант и характер лидера.
Переломным в истории взаимоотношений между Христиановичем и Лаврентьевым можно считать 1960 г. На июльском Пленуме ЦК КПСС «О ходе выполнения решений XXI съезда КПСС о развитии промышленности, транспорта и внедрении в производство новейших достижений науки и техники» С. А. Христианович выступал с докладом, в котором сделал акцент на подробном рассказе о работе по проекту ПГУ в ИТПМ [15. С. 165 - 167]. В своих воспоминаниях сын Лаврентьева Михаил Михайлович интерпретирует этот эпизод как «некрасивый» поступок Сергея Алексеевича, который «видимо, хотел занять его (М. А. Лаврентьева. – Е. И. ) место. Поехал вместо него на Пленум ЦК КПСС; за его спиной вел переговоры с Лысенко, пообещал “ликвидировать лжеученых”, то есть генетиков, и вместо них принять в Сибирское отделение лысенковцев» [16. С. 49]. В данной интерпретации выступление Христиановича на июльском пленуме 1960 г. выглядит как своеобразное наступление на позиции Лаврентьева, которые уже пошатнулись к тому времени в связи с ревизией финансово-хозяйственной деятельности СО АН СССР 1959 г., выявившей «факты бесхозяйственности в расходовании денежных средств и материальных ценностей»[15. С. 126]. Эта интерпретация может быть подвергнута сомнению. Во-первых, сын Лаврентьева в данном случае не является самым объективным источником информации, а во-вторых, доклад Христиановича о работе над ПГУ можно воспринимать как попытку Сергея Алексеевича донести до правящей верхушки всю важность и перспективность данного проекта, идеей которого он был в то время всецело увлечен. Более того, доклад
Христиановича вполне отвечал задачам самого пленума, который был посвящен внедрению в производство новейших технологий, и вполне понятным в данном случае становится то, что для Христиановича проект ПГУ был важнейшим в работе всего Сибирского отделения в масштабах развития всей страны.
Так или иначе, выступление Христиановича могло подтолкнуть Лаврентьева к активным действиям против Сергея Алексеевича. В данном контексте случай с Б. В. Войцеховским, произошедший, по всей видимости, осенью 1960 г. 18, уже не выглядит как причина конфликта между академиками 19. Он, скорее, подогрел ситуацию и ускорил «расправу» над Христиановичем. Суть данной ситуации описывает А. П. Филатов – в то время – секретарь новосибирского горкома КПСС: «Христианович освободил Б. В. Войцеховского от обязанности заведующего отделом Института гидродинамики – после несчастного случая со смертельным исходом по причине грубого нарушения правил техники безопасности в этом отделе. Решение справедливое. Но Лаврентьев, вернувшись из загранкомандировки, возмутился – почему решение принято в его отсутствие? А в это время академик Христианович “провинился” в личном поведении. Более шести часов вместе с работниками ЦК КПСС мы пытались их “помирить”, доказать Лаврентьеву, что “грехи” Христиановича не так серьезны, чтобы освобождать его от должности первого заместителя Председателя Президиума СО АН. Но Лаврентьев категорически стоял на своем – “или я, или он”. В общем С. А. Христианович вернулся в Москву. Позже уехали из Академгородка и некоторые другие ученые, не найдя подхода к “трудному” характеру первого руководителя» [18. С. 241].
М. А. Лаврентьев поднял вопрос об освобождении Христиановича от обязанностей первого заместителя Председателя Отделения и члена бюро Отделения, используя в качестве повода факт личной жизни Сергея Алексеевича [2. С. 180]. 14 февраля 1961 г. на заседании парткома СО АН было рассмотрено персональ- ное дело академика С. А. Христиановича, официальная формулировка решения по которому такова: «Партком СО АН СССР за аморальное поведение и нарушение партийной этики, выразившееся в оставлении семьи и связи со своим референтом без оформления брака, объявил т. Христиановичу С. А. строгий выговор с занесением в личное дело» 20.
9 марта 1961 г. данное решение было утверждено на заседании бюро Советского райкома КПСС [4. С. 205] 21. В результате на выборах в мае 1961 г. Христианович в состав Президиума СО АН не прошел. Позднее, в 1964 г. Сергея Алексеевича вывели из состава Президиума, и он остался только директором института. Началась его «изоляция». Лаврентьев старался вытеснять тех людей, с которыми Сергей Алексеевич был близок.
О масштабе и характере изоляции можно судить, к примеру, из воспоминаний члена-корреспондента РАН, доктора техн. наук Баррикада Вячеславовича Замышляева: «В Академгородок я приехал как представитель военно-морской науки, на празднование Юбилея академика Лаврентьева М. А. Меня, капитана 1 ранга, от руководства Академгородка встречал контр-адмирал Миги-ренко Георгий Сергеевич, который в тот период был Председателем филиала Секции оборонных проблем при АН СССР и заместителем директора Института гидродинамики АН СССР (директором этого института был юбиляр академик Лаврентьев М. А.). Мы ехали по Академгородку на автомобиле “Волга”, мирно беседовали о былом... На одном из перекрестков городка я увидел Христиановича С. А. и попросил водителя остановить машину, чтобы поздороваться с ним... Георгий Сергеевич, узнав мои намерения, взволновался, попросил не останавливаться, объяснив, что академик Христианович С. А. сейчас в опале, с ним сейчас никто не разговаривает, так как он поссорился с академиком Лаврентьевым М. А. Меня это здорово удивило и даже возмутило. Я настоял на остановке. Когда машина остановилась, и я выходил из нее, Георгий Сергеевич Мигиренко (он сидел на заднем сидении) пригнулся, чтобы проходящая публика не могла увидеть его в машине, из которой кто-то отважился подойти к опальному академику... Меня очень удивило поведение Мигиренко Г. С., что он не вышел из машины, не подошел к нам, не поздоровался с Сергеем Алексеевичем, а все это время просидел в машине, пригнувшись. Так я познакомился впервые в жизни и с такими негативными проявлениями в отношениях заслуженных и глубоко уважаемых мною ученых...» 22.
У самого Сергея Алексеевича был достаточно импульсивный характер, особенно в научных дискуссиях. Для него не было особых авторитетов, «он мог с большим вниманием слушать студентов и мог, здорово разозлившись на кого-нибудь из важных лиц, потопать ногами…» 23. Естественно, это многим не нравилось, его даже побаивались. Ведь ученые – люди достаточно амбициозные, и то, что Христианович со многими иногда резко разговаривал, их сильно задевало. Возможно, это тоже влияло на отношения внутри научного сообщества Академгородка.
После отъезда С. А. Христиановича его имя как бы исчезло из истории создания СО РАН, оставшись только в перечне тройки основателей и в связи с тем, что он был первым директором ИТПМ. Это показывает историография, особенно «доперестроечных» времен. Даже в специальных выпусках газеты «Наука в Сибири», посвященных юбилеям Сибирского отделения, невозможно отыскать информацию о деятельности Христиановича по его организации 24. И только недавно (в сентябре 2005 г.) Институту теоретической и прикладной механики было присвоено имя его основателя и первого директора.
Христианович вынужден был уехать, покинуть свой институт, свое главное детище – работу над ПГУ. Правда, уезжая, он не подозревал, что годы работы будут «сданы в металлолом». В протоколе заседания партийного бюро ИТПМ, на котором С. А. Христи- анович сообщил о своем уходе из института, читаем: «Заслушали сообщение директора института академика Христиановича С. А. Вопрос ПГУ решен положительно. Защита прошла хорошо. Работа будет продолжаться» 25. Видимо, он считал, что работы по ПГУ в институте продолжатся, поэтому и просил оставить себя в качестве научного руководителя 26. Однако руководство Сибирского отделения распорядилось иначе.
Вынужденный отъезд Христиановича, безусловно, большая потеря для Сибирской науки, для науки страны в целом и для ИТПМ в частности. Если бы он поработал в Сибирском отделении лет пятнадцать, то могла сложиться научная школа мировой значимости, а так она только начала складываться. К тому же институт понес кадровые потери, так как многие ученики и коллеги ученого последовали за ним в Москву и продолжили совместную с ним работу. Это Ю. А. Выскубенко, В. М. Масленников, А. Т. Онуфриев, Э. Цалко, А. М. Климов, В. С. Фролов, В. С. Кузнецов, Е. А. Фадеев.
С. А. Христианович сыграл выдающуюся роль в создании научного центра в Сибири. Сожаление вызывает тот факт, что Сергей Алексеевич был вынужден уехать слишком рано, не реализовав до конца свой научный потенциал, а ведь в Сибирь приехал великий ученый, имевший уже признание в научном мире, многочисленные государственные награды, полученные в том числе и в годы войны, с большим желанием работать и развивать науку.
Материал поступил в редколлегию 29.10.2007