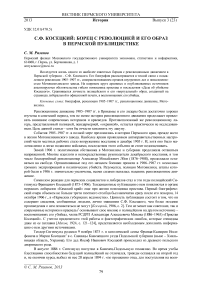С. Ф. Косецкий: борец с революцией и его образ в пермской публицистике
Автор: Рязанов Сергей Михайлович
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Российская империя на рубеже XIX-XX веков
Статья в выпуске: 3 (23), 2013 года.
Бесплатный доступ
Исследуется жизнь одного из наиболее известных борцов с революционным движением в Пермской губернии – С.Ф. Косецкого. Его биография рассматривается в тесной связи с подавлением революции 1905–1907 гг., совершенствованием органов внутренних дел и повседневностью Мотовилихинского завода. На широком круге архивных и опубликованных источников анализируются обстоятельства гибели помощника пристава и последствия «Дела об убийстве Косецкого». Сравнивается личность полицейского и его «виртуальный» образ, созданный на страницах либеральной и официозной печати, в воспоминаниях его убийцы.
Биография, революция 1905–1907 гг, революционное движение, мотовилиха
Короткий адрес: https://sciup.org/147203512
IDR: 147203512 | УДК: 32.01(470.5)
Текст научной статьи С. Ф. Косецкий: борец с революцией и его образ в пермской публицистике
Революционное движение 1905–1907 гг. в Прикамье и его лидеры были достаточно хорошо изучены в советский период, тем не менее история революционного движения продолжает привлекать внимание современных историков и краеведов. Противоположный же революционному лагерь, представленный полицией, жандармерией, «охранкой», остается практически не исследованным. Цель данной статьи – хотя бы отчасти заполнить эту лакуну.
События 1905–1907 гг. в полной мере преломились в истории Пермского края, прежде всего в жизни Мотовилихинского завода. Наиболее ярким проявлением антиправительственных настроений части местных рабочих стало вооруженное восстание в декабре 1905 г. И, хотя оно было малочисленно и легко подавлено войсками, последствия этого события не стоит недооценивать.
Зимой 1906 г. политическая обстановка в Мотовилихе и губернии продолжала оставаться напряженной. Многие идеологи и непосредственные руководители декабрьского восстания, в том числе беспартийный революционер Александр Михайлович Лбов (1876–1908), продолжали оставаться на свободе . Организованные под его началом боевики провели в 1906–1907 гг. несколько громких экспроприаций и политических убийств. Разумеется, полиция Мотовилихи, штаты которой были в 1906 г. значительно увеличены, всеми силами пыталась подавить революционное движение.
Символом реакции для пермских социалистов и либералов стал в эти годы полицейский Сигизмунд Францевич Косецкий (1875–1906). Тенденциозные публикации о нем появляются в органе пермских либералов «Камский край» еще при жизни помощника пристава. Первый биографический очерк объемом не больше трети газетного столбца был напечатан сразу после его похорон, 14 октября 1906 г., в «Пермских губернских ведомостях». Ценность публикации состоит в том, что он содержит сведения, сообщенные людьми, лично знавшими С.Ф. Косецкого, чем более поздние произведения о нем похвастаться не могут [ Косецкий , 1906, с. 2]. Тем не менее как советские, так и современные историки и краеведы1 основывают свое мнение о полицейском на другом источнике – воспоминаниях его убийцы, члена РСДРП Александра Алексеевича Микова (1886–1963) «Пристав Косецкий». С учетом предвзятости этой работы и фактографических ошибок, которые очевидны даже из ее заглавия [ Миков , 1924, с. 121–124], представляется необходимым дополнить информацию о нем другими источниками.
Теодор-Сигизмунд родился 9 ноября 1875 г. в католической семье Франца-Ксаверия Иосифовича и Марии Косецких2 в с. Савинцы Каменецкого уезда Подольской губернии (ныне – Хмельницкая область, Украина). Его дед Иосиф Иванович Косецкий происходил из древнего польского дворянского рода.
В августе 1886 г. Сигизмунд поступил в Каменец-Подольскую гимназию. Во время учебы блестящими способностями будущий полицейский не отличался, трижды оставался на второй год и, не окончив курса, выбыл из нее 28 апреля 1894 г. «по прошению отца, для поступления на воен-
ную службу». Хотя поведение С.Ф. Косецкого в последнем для него, пятом, классе3 оценено как «отличное», среди его четвертных оценок много «двоек», а «пятерки» – только по Закону Божию и истории. В армию С.Ф. Косецкий отправился вольноопределяющимся второго разряда, для чего в начале 1896 г. держал в той же гимназии экзамен на знание программы, на котором опять показал отличное знание Закона Божьего. Видимо, «католическое вероисповедание» не было для него простой «припиской» в паспорте. Служил Сигизмунд Францевич в 19-м пехотном Костромском полку, где достиг чина ефрейтора. [ГАПК. Ф. 36. Оп. 10. Д. 789. Л. 6–11]. Во время Русско-японской войны полк был мобилизован и отправлен на Дальний Восток. Однако в боях не участвовал. После демобилизации, возвращаясь с фронта, до родного села С.Ф. Косецкий не доехал. Оказавшись в г. Перми без всяких средств к существованию, он вынужден был пойти на службу в полицию младшим городовым4 [С.Ф. Косецкий, 1906, 14 окт., с. 2]. В своих воспоминаниях А.А. Миков предполагает, что до поступления в полицию С.Ф. Косецкий служил в охранном отделении [ Миков , 1924, с. 121], однако никаких подтверждений этому в официальных документах нет.
В сохранившемся делопроизводстве Пермского уездного полицейского управления Сигизмунд Францевич впервые упоминается в декабре 1905 г. как старший городовой Мотовилихинского завода. Нужно отметить, что дворянское происхождение было редкостью для нижних чинов Пермской уездной полиции, и уже совсем скоро польский дворянин пошел на повышение.
Во время разгона демонстрации на похоронах Норина 17 декабря 1905 г. С.Ф. Косецкий вырвал красное знамя из рук революционеров. За «расторопность и отвагу», проявленную в этом и других столкновениях, с 20 января 1906 г. Косецкий был повышен до околоточного надзирателя5 Мотовилихинского завода. Порекомендовал его на эту должность другой поляк-католик на полицейской службе, помощник Пермского уездного исправника Антон Людвигович Правохенский [Ф. 36. Оп. 10. Д. 789. Л. 3–3 об.].
Первая встреча Косецкого и его будущего убийцы состоялась в 1906 г. во время разгона митинга у стен правления Пермских пушечных заводов. По словам А.А. Микова, рабочие как раз собирались прекратить стачку, когда бравый полицейский во главе отряда конной стражи, усиленного ингушами, «налетел на собрание», арестовав несколько десятков человек. «Обстоятельство это взбудоражило рабочих и затянуло забастовку» [ Миков , 1924, с. 121],.
Еще в декабре 1905 г. имели место случаи обращения мотовилихинских рабочих к полиции и казакам по поводу террора революционеров. Лишившись в ходе забастовки средств к существованию, рабочие изъявляли желание работать. Они просили служителей правопорядка защитить их от «главарей революционно движения», обещавших стрелять в тех, кто нарушит условия стачки [ГАПК. Ф. 160. Оп. 1. Д. 50. Л. 11, 18]. Разумеется, возобновление работы отвечало и интересам заводской администрации. Обеспечить безопасность рабочих взялся Сигизмунд Францевич. Возглавляемые им отряды полицейских ежедневно провожали рабочих до проходной, защищая от революционеров во главе с А.А. Миковым, караулящих «штрейкбрехеров» с булыжниками. Параллельно с этим прошли аресты вождей стачечного движения. И уже в мае 1906 польский дворянин был повышен до помощника пристава Мотовилихинского завода6 [ГАПК. Ф. 36. Оп. 10. Д. 789. Л. 15 об. – 16; Миков , 1924, с. 121–122].
В 1905–1907 гг. личный состав мотовилихинской полиции оставлял желать лучшего. Делопроизводство уездного полицейского управления полно рапортов о «напивавшихся до безобразия» не только младших, но и старших городовых [ГАПК. Ф. 132. Оп. 3. Д. 68, 69]. Осенью 1907 г. имела место даже попытка грабежа жителя Мотовилихи пьяными полицейскими [ГАПК. Ф. 132. Оп. 3. Д. 69. Л. 171].
Ярким примером превышения должностных полномочий со стороны нижних чинов Мотовилихинской полиции может служить эпизод, произошедший 9 мая 1906 г. в помещении правления Пермских пушечных заводов, где, если верить анонимному корреспонденту, происходила «зверская расправа» над «посторонним», подозреваемым в убийстве сторожа в чугунолитейном цехе, в ночь на 30 апреля 1906 г. Поводом к аресту послужила кража потерпевшим самовара, похищенного из этого цеха. «По рассказам очевидцев, арестованный был избит до потери сознания и едва ли останется жив... – сгущал краски анонимный корреспондент. – Характерно то, что управление уже не первый раз оказывается экзекуционным пунктом» [Арест..., 1906, с. 3]. Не многим лучше своих подчиненных вели себя отдельные околоточные надзиратели. По ложному доносу двое полицейских вечером 16 мая 1906 г. налетели на «мирно игравшую в своем саду компанию рабочих» на
Спешиловской улице, нагнали одного из них, после чего полицейский Некрасов схватил несчастного за волосы и, несмотря на его мольбы о пощаде, начал топтать и пинать в бок, спину и голову, пока задержанный не потерял сознания. Очнувшегося через пару минут рабочего доставили в полицию околоточному Кузовникову, который собственноручно нанес окровавленному рабочему еще два удара. На следующий день, не обнаружив вины задержанного, его освободили [Мотовилиха, 1906, 24 мая, с. 2].
Рабочие-революционеры отплатили полиции той же монетой. По неполным данным после убийства С.Ф. Коссецкого c октября 1906 г. по декабрь 1907 г. в Пермском уезде было убито 10 и ранено 9 полицейских и жандармов, и 90% из них – в Мотовилихе [ Ощепков , 2007, с. 16].
Корни подобной эскалации насилия нетрудно обнаружить в самом образе жизни местного населения. По сути, и рабочие Пермских пушечных заводов, и нижние полицейские чины, и революционеры рекрутировались из одной и той же грубой заводской среды. Мрачные истории о быте рабочих достаточно часто рассказывались в местной печати. Например, в феврале 1905 г. за прудом мотовилихинский обыватель бил свою жену «кулаками по лицу и куда попало, таскал за волосы, топтал ногами и пинал». Собравшаяся же толпа мужчин не только не заступилась за жертву, но «и смехом поощряла истязателя». «Такие избиения своих жен мужьями совсем нередки в Мотовилихе», – добавлял анонимный корреспондент [Дикая..., 1905, 28 февр., с. 3]. «Городское население завода отличается грубыми нравами: ссоры и драки со смертельными исходами здесь обычные явления» [ГАПК. Ф. 132. Оп. 3. Д. 47. Л. 342 об. – 343], – констатировал полицейский обзор Мотовилихи пять лет спустя.
Улучшить личный состав полиции не было никакой возможности: заработная плата была настолько низка, что после ее получения младшие городовые часто увольнялись. Так, 1 августа 1907 г., в день зарплаты, уволились сразу 12 полицейских [ГАПК. Ф. 132. Оп. 3. Д. 69. Л. 44]. Примечательно, что рабочие средней квалификации получали на Пермских пушечных заводах значительно больше мотовилихинских городовых [ГАПК. Ф. р-3. Оп. 6. Д. 448. Л. 3]. Из-за тягот службы многие полицейские уходили, не дождавшись получения своего «нищенского» жалования. За революционный 1906 г. по разным причинам уволились 129 человек. В итоге к 1 января 1907 г. личный состав даже старших городовых и конных стражников обновился почти на 100% [ГАПК. Ф. 132. Оп. 3. Д. 627].
С деятельностью С.Ф. Косецкого связана важная веха в истории революционного движения – «лбовщина». Он был даже «обессмерчен» в образе второстепенного персонажа – «пристава Косовского» - в романе Аркадия Гайдара «Жизнь ни во что (Лбовщина)» [ Гайдар , 2012]. В действительности его роль в борьбе с «лесными братьями» была достаточно скромной. К помощнику пристава 2 сентября 1906 г. явился рабочий П.А. Подкин и указал, где именно скрывается разыскиваемый с декабря 1905 г. А.М. Лбов. В тот же день С.Ф. Косецкий сообщил об этом в Пермское охранное отделение. Тем не менее целенаправленные, стоившие множества жизней попытки Мотовилихинской полиции покончить с «лбовщиной» были преприняты уже после смерти помощника пристава [ГАПК. Ф. 160. Оп. 3. Д. 271. Л. 1–2].
Газета «Камский край» утверждала, что аресты и обыски в Мотовилихе после назначения С.Ф. Косецкого помощником пристава стали носить более организованный характер. Теперь они проводились по заранее заготовленным спискам с фамилиями и кличками рабочих. У жандармов имелись и фотографии подозреваемых [К аресту..., 1906, 17 июня, с. 2]. «Камский край», однако, не связывает эти успехи с деятельностью С.Ф. Косецкого. Поскольку операции против революционеров успешно проводились в это время и в Перми, и в Мотовилихе, в губернии действовали жандармское управление и охранное отделение, приписывать все заслуги по подавлению революционного движения одному помощнику пристава было бы существенным преувеличением.
Были достигнуты значительные успехи в борьбе с «общеуголовной» преступностью в Мотовилихе, в связи с чем существенно сократилось количество убийств. Зимой 1906 г. совершалось около пяти убийств в месяц, а весной 1906 г. уже «редко совершалось одно». На улицах стало безопасно не только днем, но и ночью [Страхи..., 1906, 14 июня, с. 2].
Бездействие органов местного самоуправления в деле благоустройства селения не раз вызывало негодование местной общественности. Полиция, по сути, взяла эту задачу на себя. Под ее руководством были набиты номера домов, названия улиц, приведены в порядок канавы вдоль домов [Деятельность..., 1906, 14 июня, с. 2]. Более того, при содействии пристава селения Мотовилихин- ского завода Григория Дамиановича Костюшко-Валожинича (1864–?) был установлен праздничный отдых для работников торговли [ГАПК. Ф. 36. Оп. 10. Д. 792; Праздничный..., 1906, 14 июня, с. 2].
Другая важная общественная функция, которую пришлось взять на себя полиции Мотовилихинского завода во главе с Г.Д. Костюшко-Валожиничем и С.Ф. Косецким, – организация народных гуляний в Мотовилихинском саду. Дело в том, что до 1905 г., в течении 10 лет, в Мотовилихе успешно действовало Общество борьбы за народную трезвость. Оно открыло читальню. В его ведение постепенно перешел Мотовилихинский театр, в котором организовывались различные представления. В Театральном саду проходили гуляния. Однако вскоре общество прекратило активную деятельность. «Пермские губернские ведомости» сокрушались о том, что мотовилихинским обывателям придется теперь вернуться к «пьянству и неразлучной с ним драке и дебоширству» [Мотовилиха, 1905, 5 июля, с. 3; Мотовилихинский..., 1905, 13 сент., с. 3]. Летом 1906 г. ситуацию попыталась взять под свой контроль полиция, самостоятельно организовывая трезвые гуляния для рабочих [Народный..., 1906, 16 июня, с. 2].
Перечисленные случаи вмешательства полиции в те сферы общественной жизни, которые, казалось бы, ее не касаются, напоминают о «зубатовщине». Однако занималась этим общая полиция, в силу чего действовала более открыто. Нужно также добавить, что мотовилихинский пристав Г.Д. Костюшко-Валожинич, бывший околоточный надзиратель г. Санкт-Петербурга, должен был ранее сталкиваться с гапоновским движением.
Первое покушение на С.Ф. Косецкого 23 июля 1906 г. совершили представители партии социалистов-революционеров. Желая показать свою силу и запугать рабочих «казнь» «черта» террористы решили осуществить в людном месте - на выходе из Мотовилихинского театра. Однако покушение провалилось. Одна из восьми выпущенных неизвестным из браунинга пуль пробила пальто, а другая - сапог С.Ф. Косецкого [ГАПК. Ф. 65. Оп. 3. Д. 102. Л. 43; Миков , 1924, с. 123]. Не устрашившись, помощник пристава продолжил исполнять свои обязанности.
В конце августа - начале сентября 1906 г. покончить с С.Ф. Косецким решили мотовилихинские социал-демократы. Вопрос об этом был поднят на одном из собраний изрядно поредевшей из-за арестов Мотовилихинской группы РСДРП. Однако представитель Пермского комитета партии Н. Патлых высказался резко против, угрожая в случае неповиновения исключить группу Микова из партии. В дальнейшем в личных беседах с А.А. Миковым члены Пермского комитета РСДРП заняли двойственную позицию. Лично они были «за» казнь ненавистного полицейского, но принципиально «против», потому что отрицали террористические методы борьбы. Тогда А.А. Миков во главе небольшой группы боевиков решил действовать самостоятельно.
О последних часах помощника пристава из материалов Пермского краевого архива известно, пожалуй, больше, чем обо всей его жизни. Сохранилось целых четыре дела о его убийстве в делопроизводстве разных учреждений Пермской губернии. Однако ни в одном из них не содержится ясного ответа на вопрос, кто же стоит за убийством полицейского [ГАПК. Ф. 65. Оп. 3. Д. 102; Ф. 132. Оп. 3. Д. 5; Ф. 142. Оп. 5. Д. 26; Ф. 160. Оп. 3. Д. 273].
Тем не менее на основе донесения охранного отделения в Департамент полиции от 12 октября 1906 г. [ГАПК. Ф. 160. Оп. 3. Д. 273. Л. 5–6], обвинительного акта в отношении В.П. и Н.П. За-платиных, А.Н. Косвинцева и Я.И. Бронникова [ГАПК. Ф. 65. Оп. 3. Д. 102. Л. 41–42 об.] и признания А.А. Микова [ Миков , 1924, с. 124] ситуацию можно восстановить. В Мотовилихинском театре7 10 октября 1906 г. давала спектакль русско-украинская труппа. К началу представления помощник пристава опоздал из-за срочной проверки задержанных в волостном правлении. В 9 часов вечера вместе с младшим городовым Андреем Васильевичем Опариным помощник пристава отправился в свой последний наряд при Мотовилихинском театре. Когда полицейские шли через темный сад, то заметили слева от дорожки на одной линии и примерно на равном расстоянии друг от друга трех человек. Третий из них, стоявший у самого входа в театр, вышел вперед и откашлялся. С.Ф. Косец-кий потребовал предъявить билет, но тот, будучи пьяным или претворяясь таковым, сначала подал пятирублевую банкноту и лишь потом билет. Затем все трое вошли в театр. С. Ф. Косецкий распорядился следить за ними.
Нрав польского дворянина характеризует следующий эпизод, имевший место незадолго до его смерти. В театре околоточный надзиратель Сычев доложил помощнику пристава, что перед спектаклем к нему подходил Яков Бронников и говорил, что не стоит служить в полиции: в любой момент могут убить. Косецкий заметил, что за такие разговоры Бронникова следовало тут же арестовать.
Во время спектакля в помещение театра входили три человека, которые минут через 15 ушли. Скорее всего, это и были боевики Миков, Кожин и Папочкин. К началу второго действия А.А. Миков вернулся и остался в прихожей, без шапки, прикрыв лицо лацканами пиджака. Ждать ему пришлось недолго. Вскоре городовые вывели из помещения театра пьяного Николая Петровича Заплатина. На шум со словами «Тише, тише» в прихожую вышел и С.Ф. Косецкий. Воспользовавшись замешательством, А.А. Миков подошел к двери и дважды с расстояния не более метра выстрелил сзади в помощника пристава из браунинга. «В меня стреляют», – только и успел произнести Сергей Францевич. Вторая пуля прошла сквозь череп. Помощник пристава упал. Убийца выбежал в сени и еще дважды выстрелил из-за двери в то место, где лежал полицейский. Городовые, Печенкин и Овчинников сначала бросились к Косецкому и лишь потом побежали за преступником. Однако последний успел скрыться. Околоточный надзиратель Сычев увидев, что некто через пожарный выход забежал в театр, распорядился закрыть все выходы из здания и отправился за приставом. С.Ф. Косецкий был незамедлительно доставлен в госпиталь Пермских пушечных заводов, где через полчаса скончался, не приходя в сознание.
Похороны С.Ф. Косецкого прошли 13 октября 1906 г. На отпевании в пермском костеле присутствовали вице-губернатор Николай Николаевич Коптев, множество чинов городской и уездной полиции, а также «постороннего народу» [С.Ф. Косецкий, 1906, 14 окт., с. 2]. Похоронен помощник пристава был в католической части Егошихинского кладбища. О смерти Сигизмунда Францевича 20 октября 1906 г. было сообщено его родственникам. Небольшое имущество, оставшееся после гибели не успевшего обзавестись семьей полицейского, наследовал его брат Эмиль Францевич Ко-сецкий, проживающий в с. Савинцы Каменецкого уезда Подольской губернии [ГАПК. Ф. 132. Оп. 3. Д. 5. Л. 56–61 об.].
С гибелью Косецкого связано другое трагическое обстоятельство. Проживающая в Мотовилихе двадцатипятилетняя Шамсим Хазян Фасхутдинова, собиравшая утром 11 октября 1906 г. щепки между волостным правлением и Мотовилихинским театром, т. е. на пути следования Косец-кого, подорвалась на бомбе. Раны, полученные ею, оказались смертельны [ГАПК. Ф. 132. Оп. 3. Д. 5. Л. 3]. А.А. Миков оправдывал преступную ситуацию халатностью своей группы, тем, что его соратник Кожин хранил взрыватель отдельно от бомбы, да и предназначалась она якобы не для Ко-сецкого, а для метания на плац к полицейским [ Миков , 1924, с. 124].
Было в этом деле и еще одно обстоятельство, которое А.А. Миков никак не объясняет. В 7 часов 30 минут вечера 12 октября в канцелярию пристава Мотволихинского завода священник местной Свято-Троицкой церкви Павел Васильевич Конюхов принес револьвер «Смитт энд Вэс-сон», заряженный четырьмя патронами и объяснил, что оружие это примерно в четыре часа нашли две ученицы церковной школы. Оно лежало под скамейкой в аллее Мотовилихинского сада [ГАПК. Ф. 160. Оп. 3. Д. 173. Л. 13–13 об.; Еще к убийству..., 1906, 15 окт., с. 3], недалеко от того места, где вечером С.Ф. Косецкий встретил трех странных людей. Два патрона в револьвере были крестообразно разрезаны, как позже показала баллистическая экспертиза, сделано это было для придания им большей разрушительной силы. Она же позволила установить, что убит Косецкий был из другого оружия – браунинга, полицией так и не найденного [ГАПК. Ф. 65. Оп. 3. Д.102. Л. 43].
После теракта А.А. Миков бежал в леса, к А.М. Лбову. Однако уже 24 ноября 1906 г. группа Микова задумала новую акцию в Мотовилихе: экспроприацию почтового отделения. Из-за предательства Ивана Кузьмича Папочкина все участники ограбления были схвачены уже на следующий день. За это преступление в 1908 г. А.А. Миков был судим Казанской судебной палатой и приговорен к 8 годам каторжных работ [ Дылдина , 1966, с. 395]. Сдавший своих товарищей И.К. Папочкин утверждал, что А.А. Миков виновен также в убийстве С.Ф. Косецкого [ГАПК. Ф. 142. Оп. 5. Д.26. Л. 46; Ф. 160. Оп. 3. Д. 273. Л. 40]. Однако вместо Микова в убийстве Косецкого был обвинен Всеволод Петрович Заплатин. И, надо сказать, основания подозревать В.П. Заплатина у полиции были. Во-первых, на него указал свидетель - околоточный надзиратель Сычев. Во-вторых, он приходился родным братом Н.П. Заплатину, который, будучи пьяным, «выманил» помощника пристава в фойе. В-третьих, при обыске в доме братьев Заплатиных были обнаружены брошюры К. Маркса и Ф. Энгельса, нелегальные газеты и листовки, тексты революционных песен [ГАПК. Ф. 65. Оп. 5. Д. 102. Л. 42–42 об.]. Однако военным судом Н.П. Заплатин был оправдан [ГАПК. Ф. 142. Оп. 5. Д. 26 Л.
49–50]. Почему даже после этого не было начато новое следствие, уже против А.А. Микова, остается неясным.
Еще несколько месяцев после убийства в Мотовилихинскую полицию поступали доносы, преимущественно анонимные, а один – от имени вымышленной двоюродной сестры помощника пристава Голубевой, в которых в качестве убийц С.Ф. Косецкого указывались различные лица [ГАПК. Ф. 160. Оп. 3. Д. 273. Л. 17, 29, 31]. Однако все эти обвинения оказывались ложными.
В связи с делом об убийстве С.Ф. Косецкого пострадало множество невиновных. Например, Егор Осипович Чазов, виноватый лишь в том, что просил 10 октября 1906 г. продолжить представление, несмотря на то что знал об убийстве помощника пристава, просидел в тюрьме до 30 апреля 1907 г. и по положению об усиленной охране был выслан в административном порядке в Воткинский завод. По несколько месяцев провели в тюрьмах и другие люди, требовавшие продолжения представления [ГАПК. Ф. 132. Оп. 3. Д. 5. Л. 19–19 об., 79–81].
Гибель С.Ф. Косецкого от руки террориста произвела впечатление на пермскую общественность. Настроение в городе стало еще более тревожным. Так, 18 октября 1906 г., когда в Пермском городском театре возникли проблемы с электричеством, в зале началось движение и «сведующие люди» тут же объявили, что это происки злоумышленников и вот-вот произойдет «грандиозное несчастье». Впрочем, представление прошло без всяких происшествий [У страха..., 1906, 20 окт., с. 2].
Вот и все, что нам известно о С.Ф. Косецком. Был ли он значительной фигурой в борьбе с революционным движением или простым исполнителем распоряжений губернатора, уездного исправника и мотовилихинского пристава? Объясняется ли его быстрая карьера соответствующими личными качествами или протекцией местных поляков-полицейских? Сохранившиеся источники не дают однозначного ответа на этот вопрос. В то же время несомненно, что, несмотря на незначительный пост, за свою короткую службу в Мотовилихе он сумел превратиться в легенду.
А.А. Миков в своих воспоминаниях ошибочно называет Косецкого приставом Мотовилихинского завода. Эта ошибка явно говорит о важности Косецкого в восприятии революционеров Мотовилихи. Все силы реакции они персонифицировали в несколько конкретных «предателей и шпионов». И возглавлял список их помощник пристава [Листовка..., 1958, с. 309].
В мемуарах Микова образ помощника пристава демонизирован. Не случайно «большевик» вспоминает о том, что революционно настроенные рабочие прозвали С.Ф. Косецкого «чертом». По словам Микова, «пристав» обладал «личными особенными способностями», позволявшими ему вербовать «малодушных рабочих», «где льстивым увещеванием и разными посулами, где просто угрозой ареста и высылкой и т.д.» В дальнейшем из этих людей он воспитал известных «провокаторов-зверей» [ Миков , 1924, с. 122]. Весь завод при Косецком превратился в «сплошную охранку, кишмя кишевшую агентами и провокаторами» [ Миков , 1924, с. 122]. И это давало свои плоды. Производимые Косецким аресты и обыски носили уже не случайный характер, как до него, а были направлены против конкретных лидеров подпольных организаций. По словам Микова, С.Ф. Косец-кий являлся «опытным... ликвидатором» и «опасным врагом» рабочих. «Большевик» даже предполагает, что ранее С.Ф. Косецкий служил в охранном отделении [ Миков , 1924, с. 122]. Однако официальными документами это не подтверждается. Да и сама идея создания «агентурной сети» простым околоточным надзирателем, с учетом того, что у общей полиции не было средств на ее содержание, выглядит достаточно фантастично. Очевидно, все приводимые А.А. Миковым факты и домыслы имели одну цель: как можно больше возвеличить фигуру Косецкого, а вместе с ним – и свой «подвиг».
Такой разный подход к С.Ф. Косецкому объясняется, во-первых, тем, что корреспонденты «Камского края» в отличие от социалистов не знали, насколько замешаны в политических преступлениях те или иные арестованные. Во-вторых, газета стремилась показать, что жертвами «полицейского произвола» оказываются преимущественно ни в чем не повинные люди, а потому делала акцент на неудачах С.Ф. Косецкого, во многом разрушая «демонический» образ, предложенный А.А. Миковым.
Со смертью С.Ф. Косецкого газета «Камский край» полностью утратила к нему интерес, ограничившись небольшой заметкой о его убийстве. Даже гибели татарки Ш.Х. Фасхутдиновой было уделено больше внимания [Взрыв..., 1906, 12 окт., с. 3; Убийство, 1906, 12 окт., с. 3]. Зато ранее не упоминавшие о Сигизмунде Францевиче «Пермские губернские ведомости» начали активно писать о нем и расследовании его убийства, создавая еще один, на этот раз героический, образ Ко-сецкого. Тон задал исполняющий должность пермского губернатора Александр Владимирович Болотов (1866–1938) своим приказом по полиции от 11 октября 1906 г., содержавшим следующие строки о помощнике пристава: «Служебная деятельность этого образцового полицейского чиновника, действовавшего не щадя живота, должна быть поставлена в пример всем чинам полиции. Глубоко сожалею о преждевременной, трагической смерти этого верного, честного и преданного слуги Государя. Вечная ему память» [ Болотов , 1906, 12 окт., с. 1]. Автор некролога «геройски погибшего» С.Ф. Косецкого утверждал, что «все знавшие Сигизмунда Францевича сердечно его любили, – его открытый характер, стремление помочь ближнему и искренность невольно влекли к нему» [С.Ф. Косецкий, 1906, 14 окт., с. 2]. Мельковский, сокрушаясь, что гибель «героя» не вызвала должного сочувствия у «местного общества», показывает Косецкого молодым человеком с образованием, из хорошей семьи, бросившим гимназию, чтобы пойти на войну, а затем – «честно и добросовестно», защищавшим «спокойствие общества» на своем посту в полиции. «Честь и слава [таким] скромным жертвам долга...», – объявляет публицист [Мельковский, 1906, 15 окт., с. 4]. Другими словами, пытаясь сделать из С.Ф. Косецкого героя, пермский официоз, пусть и ненамеренно, искажал факты так же, как и его политические оппоненты.
В статье мы изложили сведения о жизненном пути С.Ф. Косецкого, а также мифы о нем, созданные в 1906 г. Возможно, новые факты, открытые при дальнейшем, деидеологизированном, изучении революции 1905–1907 гг., помогут их развеять. Тем не менее в силу отсутствия источников личного происхождения, способных пролить свет на подлинные мотивы деятельности полицейского, С.Ф. Косецкий навсегда останется загадкой.
Список литературы С. Ф. Косецкий: борец с революцией и его образ в пермской публицистике
- Арест и неприкосновенность личности//Камский край. 1906. 17 мая. С. 3.
- Аресты и обыски//Камский край. 1906. 1 сент. С. 3.
- Болотов А.В. Приказ по полиции//Пермские губернские ведомости. 1906. 12 окт. С. 1.
- Взрыв бомбы//Камский край. 1906. 12 окт. С. 3.
- Гайдар А.П. Жизнь ни во что (Лбовщина). Пермь; М., 2012. 122 с.
- Деятельность полиции//Камский край. 1906. 14 июня. С. 2.
- Дикая расправа//Пермские губернские ведомости. 1905. 28 февр. С. 2.
- Дылдина А.А. Миков Александр Алексеевич//Революционеры Прикамья/сост. Н.А. Аликина. Пермь, 1966. С. 393-397.
- Еще к убийству Косецкого//Пермские губернские ведомости. 1906. 15 окт. С. 3-4.
- К аресту в Мотовилихе//Камский край. 1906. 17 июня. С. 3.
- Как исполняет полиция циркуляры губернатора//Камский край. 1906. 7 июля. С. 2.
- Листовка Мотовилихинского районного комитета РСДРП. Конец июля 1906 г. // Листовки пермских большевиков 1901-1917 гг. Пермь, 1958. С. 309.
- Мельковский. По поводу//Пермские губернские ведомости. 1906. 15 окт. С. 4.
- Миков А.А. Пристав Косецкий//Борьба за власть. Т. 2. Годы реакции. Пермь, 1924. С. 121-124.
- Мотовилиха//Камский край. 1906. 24 мая. С. 2.
- Мотовилиха//Пермские губернские ведомости. 1905. 5 июля. С. 3.
- Мотовилихинский завод//Пермские губернские ведомости. 13 сент. С. 3.
- Народный дом//Камский край. 1906. 16 июня. С. 2.
- Обыск//Камский край. 1906. 13 июня. С. 3.
- Ощепков Л. Полиция Пермского уезда в 1905-1907 гг. // Ретроспектива. 2007. № 2. С. 13-17.
- Праздничный отдых//Камский край. 1906. 14 июня. С. 2.
- С.Ф. Косецкий//Пермские губернские ведомости. 1906. 14 окт. С. 2.
- Страхи исчезли//Камский край. 1906. 14 июня. С. 2.
- У страха глаза велики//Пермские губернские ведомости. 1906. 20 окт. С. 2.
- Убийство//Камский край. 1906. 12 окт. С. 3.