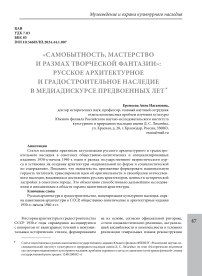"Самобытность, мастерство и размах творческой фантазии": русское архитектурное и градостроительное наследие в медиадискурсе предвоенных лет
Автор: Еремеева А.Н.
Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie
Рубрика: Музееведение и охрана культурного наследия
Статья в выпуске: 1, 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена практикам актуализации русского архитектурного и градостроительного наследия в советских общественно-политических и специализированных изданиях 1930-х-начала 1940-х годов в рамках государственного патриотического курса и установки на создание архитектуры «национальной по форме и социалистической по содержанию». Показано, что медиатексты, призванные формировать национальную гордость читателей, транслировали идеи об оригинальности и своеобразии отечественного наследия, выдающихся достижениях русских архитекторов, ценности исторической застройки в советском городе. Это объективно способствовало дальнейшим исследованиям и инициативам в области охраны памятников архитектуры.
Русская архитектура и градостроительство, популяризация культурного наследия, охрана памятников архитектуры в ссср, общественно-политические и архитектурные издания 1930-х-начала 1940-х гг
Короткий адрес: https://sciup.org/170205820
IDR: 170205820 | УДК: 7.03 | DOI: 10.34685/HI.2024.44.1.007
Текст научной статьи "Самобытность, мастерство и размах творческой фантазии": русское архитектурное и градостроительное наследие в медиадискурсе предвоенных лет
В истории архитектуры и градостроительства СССР 1930-е годы справедливо ассоциируются с поворотом от авангардных течений к монументальным историческим стилям, формированием на их основе, согласно официальной риторике, «стиля социалистического реализма», актуализацией ансамблевости и комплексности в условиях реализации генеральных планов реконструкции
Статья подготовлена в рамках выполнения государственного задания Южного филиала ФГБНИУ «Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва» по теме «Исторические поселения как категория недвижимого культурного наследия: проблема охранного статуса и социально-культурных функций», номер государственной регистрации: 12401280052–4.
Москвы, столиц союзных республик, других крупных городов, курортных территорий (Со-чи-Мацеста, Гагры, Ялта-Мисхор-Алупка и др.). Возводились такие знаковые сооружения как метрополитен, Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, строились новые города — центры промышленного производства.
В 1930-е годы были созданы Академия архитектуры СССР (1934), архитектурно-градостроительные научно-исследовательские учреждения, архитектурные мастерские в Москве и других городах; реорганизовывалась высшая архитектурная школа. Книги издательства Академии архитектуры СССР внесли важный вклад в развитие архитектурной мысли и архитектурного образования. Популярная серия «Архитектура Страны Советов» транслировала новейшие подходы к планировке и реконструкции городов.
Провозглашенный партией и государством курс на консолидацию нации, формирование патриотизма, представлений о непрерывности и преемственности национальной истории обеспечивался в значительной степени потенциалом культурного наследия. Русский фольклор, литература, история (особенно их художественные репрезентации второй половины 1930-х годов) были призваны гармонизировать новые советские и традиционные ценности1. Важным ресурсом в этом отношении также являлось отечественное архитектурное и градостроительное наследие, о практиках актуализации которого пойдет речь в данной статье.
На государственном уровне принимались решения, касающиеся обеспечения сохранности памятников архитектуры. Совместное постановление Всероссийского ЦИК и СНК от 10 августа 1933 г., в целях предотвращения фактов «небрежного использование зданий, имеющих историческое значение», запрещало их «сломку и переделку»; использование исторических зданий должно производиться на основе договоров аренды, предусматривающих принятие арендатором расходов по охране и ремонту используемых памятников. При разборке в установленном порядке исторических архитектурных памятников производилась их научная фиксация (фотографиро- вание, обмер и описание) в соответствии с указаниями Наркомпроса РСФСР. Комитету по охране памятников при Президиуме ВЦИК было поручено составить список памятников, подлежащих государственной охране. Списки памятников местного значения составлялись в автономных республиках, краях и областях. Из региональных бюджетов предписывалось отпускать необходимые средства «на ремонт и приведение в исправное состояние памятников революционного движения, исторических городских сооружений»2. В течение последующих двух лет на уровне Нар-компроса и Наркомфина была принята «Инструкция по охране исторических памятников и порядке управления ими»; Президиум ВЦИК утвердил «списки памятников, состоящих на государственной охране». Значительные средства выделялись на ремонт и реставрацию Дмитриевского собора во Владимире, храма Покрова-на-Нерли, строений Троице-Сергиевой лавры, Пскова, Новгорода… На всесоюзные стройки направлялись археологические экспедиции3.
В общественно-политических и профессиональных изданиях регулярно освещались раскопки древних поселений, работы по восстановлению памятников архитектуры, в том числе культовых сооружений, большинство из которых не так давно «перепрофилировали». «В то время как в капиталистических странах фашисты уничтожают памятники искусства, в нашей стране щедро отпускаются средства на их реставрацию, ремонт и охрану» — подчеркивал автор статьи о реставрационных работах во владимирском Дмитриевском соборе4.
Одновременно обращалось внимание на важность сохранения исторических зданий в российских городах и населенных пунктах. Случаи их ненадлежащего содержания порицались. Типичный пример — публикация корреспондента «Правды»
о ситуации в Тульской области, где «немало мест, связанных с жизнью крупнейших русских писателей». Вот только несколько примеров, приведенных в тексте: в селе Екатериновском в доме Бегичевых, где часто гостил А. С. Грибоедов, а в беседке парка дописывал последние акты «Горя от ума», «здание разрушается, от беседки остались одни стены, парк варварски вырубается»; дом в Белеве, в котором останавливался В.А. Жуковский, «занят под общежитие», «на нем нет мемориальной доски»; в селе Даровом разрушается дом, где часто бывал в детские годы Ф. М. Достоевский. На основании изложенного делался вывод: «Областные организации мало заботятся о сбережении исторических мест и зданий. С подобным равнодушием пора покончить. Эти места — достояние народа. Он дорожит их сохранностью и глубоко чтит память замечательных русских людей»5.
Писательница А.А. Караваева била тревогу по поводу запущенного состояния бывшего Тро-ице-Сергиева монастыря — «славного свидетеля многовековой истории русского народа, овеянного его героизмом, его благородной и величавой любовью к родине»: здания ветшали, на территории открыли политехникум («в чертогах и дворце, украшенном в 1745–1748 гг. плафонной лепкой с медальонами и надписями о победах и деяниях Петра Первого»), проживали люди, не имевшие никакого отношения к музейной работе; в одной из башен находилась мастерская, «не то шорная, не то сапожная», «дети сбивали на лету палочками чудесную архитектурную лепнину»6. Призыв автора превратить музей в государственный заповедник соответствовал уже проводившейся в этом направлении работе: постановлением Совнаркома «О мероприятиях по улучшению состояния памятников Загорского музея» от 1 февраля 1940 г. «весь комплекс Загорского историко-художественного музея в черте крепостных стен объявлялся музеем-заповедником с выделением вокруг наружной линии древней крепости запретной зоны для строительства в 30 метров»7.
В текстах облеченных властью экспертов, историков архитектуры, практикующих архитекторов с середины 1930-х годов присутствовала тема овладения отечественным (русского и других народов СССР) архитектурным наследием для создания архитектуры «национальной по форме и социалистической по содержанию», что соответствовало известной сталинской формуле.
В процессе реализации плана реконструкции Москвы актуализировалось ее архитектурно-планировочное наследие. В посвященном старой и новой Москве выпуске журнала «Архитектура СССР» (1935. №10–11) воспроизводилась позиция, изложенная в Постановлении Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 10 июля 1935 г. «О генеральном плане реконструкции города Москвы»: отказ как от проектов законсервированного музейного города старины с созданием нового города за пределами существующего, так и от предложений о разрушении сложившегося города и постройке нового города по новом плану; курс на сохранение основ исторически сложившегося города, но с коренной перепланировкой его путем решительного упорядочения сети городских улиц и площадей8. Главный архитектор Москвы С.Е. Чернышев призывал не «фетишизировать старину», но в то же время гарантировал сохранение «ценных произведений прошлого» и их «включение в новый ансамбль города с большим тактом»9. Исходя из этого, перед архитекторами ставилась задача «знать старину Москвы», «изучить архитектурно-планировочный фонд, который достался нам в наследство», «богатство архитектурного прошлого», чтобы «поставить эти богатства на службу великим идеям настоящего»10. Цельное представление о наследии столицы давали статьи выпуска о стенах и башнях Московского Кремля, архитектурных памятниках города до эпохи классицизма, классицизме и ампире, эпохе модерна в архитектуре города, истории складывания территории Москвы.
В докладе ответственного секретаря Союза советских архитекторов К.С. Алабяна на Всесоюзном творческом совещании архитекторов в Ленинграде в мае 1935 г. овладение культурным наследием названо «одним из основных лозунгов советской архитектуры»11. На Первом Всесоюзном съезде советских архитекторов, состоявшемся в июне 1937 г., архитектор М.Д. Мазманян, успешно интерпретировавший черты национальной армянской архитектуры в собственных проектах, в рамках дискуссии упрекнул ведущих московских архитекторов «в игнорировании великого наследия русского народа»: используя национальные формы (подчас механически) в практике строительства для союзных республик, такие мастера как И.В. Жолтовский, А.В. Щусев, В.Д. Кокорин, М.Я. Гинзбург «в работе для городов РСФСР, обращаясь к прошлому, видят только Палладио»12.
Историко-архитектурные разделы профессиональной периодики все больше насыщались отечественным контентом. Приведем фрагмент предисловия редакции журнала «Архитектура СССР» к рубрике «Архитектурное наследство», где объясняется «расширение места, отводимого материалам по истории архитектуры СССР»: «Русский народ создал архитектуру мирового значения. Из произведений великих русских зодчих, из памятников народного творчества советский архитектор может извлечь ценнейшие уроки для своей творческой работы… К сожалению, до самого последнего времени мы сталкивались с недооценкой русского архитектурного творчества, — недооценкой, которая объективно является продолжением традиции буржуазных историков <…>, умышленно преуменьшавших ее всемирно-историческое значение»13. Красной нитью в публикациях проходила мысль о том, что творчество отечественных мастеров, хотя и опиралось на мировые образцы, — было оригинальным и своеобразным.
Важным фактором актуализации отечественного архитектурного наследия стало празднование двухсотлетних юбилеев В.И. Баженова (1937) и М.Ф. Казакова (1938).
-
11 Алабян К. Творческие задачи советской архитектуры // Архитектура СССР. 1935. №7. С. 5-7.
-
12 Дискуссия на съезде // Архитектура СССР. 1937. №7-8. С. 32.
Специальные выпуски журналов «Архитектура СССР» и «Академия архитектуры» (№№2 за 1937 г.) включали материалы, касающиеся биографии и творчества В.И. Баженова. «Правда» анонсировала главные юбилейные мероприятия — торжественное собрание в Академии архитектуры и выставку сохранившихся проектов и моделей В.И. Баженова, в т.ч. собранной буквально по кусочкам в 1936 г. модели Большого Кремлевского дворца в 1/48 натуральной величины, в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушки-на14. Накануне юбилея была опубликована статья академика архитектуры А.В. Щусева, подчеркнувшего, что творчество Баженова, «только в наши дни оцененное по достоинству», наполняет советских архитекторов «чувством национальной гордости», что «самобытность, мастерство я размах творческой фантазии Баженова поистине изумительны. Он не только поднял русскую архитектуру до европейского уровня, но внес в нее глубоко самостоятельные национальные черты»15.
Юбилей М.Ф. Казакова также был отмечен множеством публикаций в общественно-политической и архитектурной печати. Освещалась выставка, организованная в помещении Музея нового западного искусства на Пречистенке, где в шести залах было выставлено более двухсот экспонатов—рисунков, акварелей, чертежей и фотографий16. Сообщалось, что Союз советских архитекторов подготовил десять передвижных выставок, посвященных М.Ф. Казакову; в Москве, Ленинграде, Киеве, Баку и других городах состоятся юбилейные собрания; на зданиях, созданных Казаковым, прикрепляются мемориальные доски с указанием автора и даты строительства17; офортная мастерская Академии архитектуры выпускает портрет Казакова работы неизвестного русского мастера ХYIII в.18 В статье искусствоведа, профессора Д. Аркина, наряду с характеристикой соору- жений, которые мог создать только «прирожденный художник, горячо любящий свою родину», «свой родной город — Москву», дана оценка роли и места Казакова в истории архитектуры: «Гениальный русский зодчий в совершенстве владел передовой строительной техникой своего времени и превосходил широтой и зрелостью своего творчества самых прославленных европейских мастеров. Вместе со своим другом гениальным Баженовым — Казаков смело прокладывал новые пути в архитектуре»19. В 1939 г. именем Казакова была названа улица в Москве (бывшая Гороховская).
Празднование юбилеев архитекторов сопровождались изданием научных и научно-популярных книг, в том числе в серии «Жизнь замечательных людей», альбомов, каталогов выставок. Помимо В.И. Баженова и М.Ф. Казакова, героями публикаций в прессе регулярно становились А.Н. Воронихин (в 1939 г. отмечалось 125 лет со дня его смерти), А.Д. Захаров.
Всесоюзная академия архитектуры инициировала научные исследования в области истории отечественной архитектуры и градостроительства. В 1939 г. под грифом издательства Академии вышла книга «Планировка городов России в XVIII и начале XIX века» В.А. Шкварикова — молодого архитектора, разработчика проектов планировки Москвы и прилегающих районов20.
Пространство учрежденного в 1934 г. в помещении бывшего Донского монастыря в Москве Архитектурного музея (подразделение Академии архитектуры) являлось по сути экспозицией по истории русской архитектуры: там были представлены скульптура, художественные барельефы, фрагменты разрушенных зданий. Кроме того, с 1936 г. в течение нескольких лет в музее работала выставка «Русская архитектура эпохи классицизма и ампира»21. Сотрудники также подготовили передвижную выставку «Русская архитектура»22.
В 1939 г. были организованы декадники русской архитектуры в Ленинграде и в Москве. Доклады столичного декадника вышли отдельным изданием. Уже во вступительном слове председателя московского отделения Союза советских архитекторов академика архитектуры Н. Я. Колли была обозначена цель мероприятия — доказательство самостоятельности русской архитектуры, развенчание представлений о ее развитии «под влиянием сперва Византии, потом романского искусства, затем Франции, Голландии, Италии», о том, «что все ценное в архитектуре России было создано итальянцами». Поставленная цель вписывалась докладчиком в государственный патриотический курс: «Партия, как заботливая мать, учит нас любить свою родину, великую историю нашего народа, его героические дела, его великих людей». В связи с тем, что памятники архитектуры, как и народный фольклор, выражают «народные устремления, взгляды и традиции», «мы должны учить широкие круги советского народа любить русскую архитектуру, ее памятники»23.
«Жесткая борьба» объявлялась вульгарно-социологическим подходам разгромленной постановлением ЦК ВКП (б) «О постановке партийной пропаганды в связи с выпуском “Краткого курса историк ВКП(б)”» от 14 ноября 1938 г. школы академика М.Н. Покровского. Со стороны организаторов декадника «школке» вменялось «отрицание художественной ценности целого ряда сооружений, только потому, что они имеют церковный, культовый или дворцовый характер»24.
Важными задачами представлялись недопущение сноса, обеспечение должной сохранности памятников, «несущих сквозь века великие достижения русской культуры». В докладе В.И. Иванова, в частности, обобщался опыт бережного отношения ленинградских коллег к памятникам русской архитектуры (Адмиралтейство, Биржа, Петропавловская крепость, пригородные дворцы, Кирилло-Белозерский монастырь в Новгороде и др.), отмечен факт спасения Академией архитектуры церкви Иоанна Предтечи во время строительства
Угличской ГЭС. При этом обращалось внимание на искажение в процессе ремонта многих занятых различными учреждениями памятников архитектуры. Важный вопрос, поднятый докладчиком, — включение памятников архитектуры в ансамбль социалистического города25.
На декаднике обсуждались также вопросы планировки городов, истории русской архитектуры. Представлялись результаты исследования московского Кремля, «бывшего» собора Василия Блаженного и др. Профессор Н.И. Брунов, выступавший с докладом «К вопросу о самостоятельных чертах русской архитектуры X—XII вв.», призывал к «углубленному и разностороннему изучению памятников нашей прекрасной архитектуры» в тесной связи с историей страны, историей материальной культуры, техники и конструкций, исследованию отдельных произведений в контексте «общего развития русского зодчества от X до XVII вв.»26 (заметим, что в 1942 г. докладчик защитит докторскую диссертацию «Исследования по истории русской архитектуры»). А.И. Михайлов сформулировал задачу своего доклада как «раскрытие национального характера русской архитектуры ХѴІІІ — ХІХ вв.» и сделал акцент на роли русских зодчих — Захарова, Баженова, Казакова в борьбе за создание подлинно национальной архитектуры, которую они вели «с антинациональной, в ряде случаев, политикой самодержавия»27.
В прессе рубежа 1930-х–1940-х гг., помимо рассуждений о роли русского зодчества как важного источника современной архитектуры, поднимался вопрос о «подлинной традиции» без которой невозможно «подлинное новаторство»28. В статье академика А. Щусева «Национальная форма в архитектуре» напоминалось о практике «искусственного насаждения» властями и духовенством псевдорусского стиля на примере разрушенного в 1931 г. храма Христа Спасителя,
«не имевшего ничего общего с живой традицией подлинной русской национальной архитектуры», «не напоминавшего простой красоты и правдивых пропорций старой русской архитектуры». Советским архитекторам предписывалось обращаться к «подлинному архитектурному наследству народов СССР, которое, однако, до сих пор, к сожалению, еще очень слабо изучено». Особо подчеркивалось значение памятников древнерусского зодчества — культовых и бытовых сооружений29. Архитектор И. Антипов также писал о пагубности механического переноса элементов исторической архитектуры на современные здания во избежание прошлых ошибок «псевдорусской стилизации». Он отмечал как положительный опыт, так и сложности освоения русского архитектурного наследия советскими архитекторами и необходимость дальнейших исследований в этом отношении30.
Как воздействовали публикации, актуализировавшие отечественное архитектурное и градостроительное наследие, дебаты в профессиональном сообществе на практическую деятельность? По мнению известного современного историка архитектуры В.В. Седова, «советских архитекторов, начиная с 1939 г., настоятельно подталкивали к обращению к русским формам вообще и к древнерусским формам в частности», что «вписывалось в определенную тенденцию по освоению русской культуры вообще и русской архитектуры в частности». На примере декора жилого дома архитектора А.Г. Мордвинова построенного в Москве в 1940 г. на улице Большая Полянка, В.В. Седов показал новаторский опыт использования древнерусских архитектурных мотивов, обращение к которым только после войны стало «обширным и регулярным»31.
Итак, русское архитектурное и градостроительное наследие в 1930-е годы стало одной из составляющих государственного патриотического дискурса, нацеленного на консолидацию нации, формирование представлений о преемственности национальной истории, гордости за достижения ее выдающихся представителей не только в советском настоящем, но и в далеком прошлом. Овладение наследием, «подлинной традицией» (а не механическое воспроизведение элементов в современных зданиях) рассматривалось как предпосылка создания архитектуры «национальной по форме и социалистической по содержанию».
Общественно-политические и специальные издания регулярно освещали реставрацию памятников русской архитектуры, в том числе культовой, реагировали на факты их ненадлежащего использования. Актуализация отечественного архитектурного наследия происходила при активном участии Академии архитектуры СССР в рамках празднования двухсотлетних юбилеев В.И. Баженова и М.Ф. Казакова, декадников русской архитектуры в Ленинграде и Москве, выставочной и книгоиздательской деятельности.
Главный посыл текстов, посвященных русскому архитектурно-градостроительному наследию, состоял в утверждении его национального характера, оригинальности и своеобразии творчества отечественных мастеров, их неразрывной связи с русским народом, достойном месте в мировой архитектурной практике своего времени, необходимости дальнейших исследований в этом направлении. Признавались жизнеспособность и ценность исторической застройки, что во многом предопределило будущую законодательную практику в области охраны историко-культурного наследия.
Список литературы "Самобытность, мастерство и размах творческой фантазии": русское архитектурное и градостроительное наследие в медиадискурсе предвоенных лет
- Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева. Путеводитель по коллекциям / Шефред. И.М. Коробьина. М.: Легейн, 2010. 180 с.
- Кознова И. Е., Никольский С. А. Прошлое в политике и культуре советской России // Вестник славянских культур. 2017. Т. 43. С. 52-69. EDN: YFSQMJ
- Культура в нормативных актах советской власти. 1930-1937 / сост. К. Е. Рыбак. М.: Юстицинформ, 2011. 400 с.
- Культура в нормативных актах советской власти. 1938-1960 / сост. К. Е. Рыбак. М.: Юстицинформ, 2011. 592 с.
- Личак Н. А. Противоречия в системе охраны памятников советской России во второй половине 1930-х гг. // Вестник Московского государственного областного университета. Сер.: История и политические науки. 2010. № 4/5. С. 68-74. EDN: LUUAPH
- Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. В 5-ти т.: Cб. док. за 50 лет. Т.2. 1929-1940. М.: Политиздат, 1976. 800 с.
- Русская архитектура. Доклады, прочитанные в связи с декадником по русской архитектуре в Москве в апреле 1939 г. / под ред. В.А. Шкварикова. М.: Государственное архитектурное издательство, 1940 -243 с.
- Седов В.В. Два жилых дома архитектора Мордвинова и возрождение русской темы в архитектуре сталинского времени // Вестник Московского университета. Сер. 8. История. 2018. №3. С. 139-149. EDN: LXSVPV
- Шквариков В.А. Планировка городов России в XVIII и начале XIX века. М.: Издательство Всесоюзной академии архитектуры, 1939. 256 с.