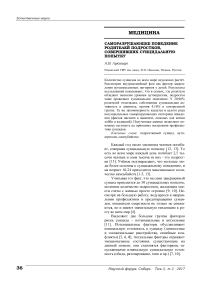Саморазрушающее поведение родителей подростков, совершивших суицидальную попытку
Автор: А.В. Лукашук
Журнал: Научный форум. Сибирь @forumsibir
Рубрика: Медицина
Статья в выпуске: 2 т.3, 2017 года.
Бесплатный доступ
Количество суицидов во всем мире неуклонно растёт. Рассмотрен внутрисемейный фон как фактор закрепления аутоагрессивных паттернов у детей. Результаты исследования показывают, что в семьях, где родители обладают высоким уровнем аутоагрессии, подростки чаще проявляют суицидальное поведение. У 20,96% родителей отмечалась собственная суицидальная активность в анамнезе, против 4,16% в контрольной группе. Та же закономерность касается и целого ряда несуицидальных саморазрушающих паттернов поведения (фактов насилия в анамнезе, опасных для жизни хобби и аддикций). Полученные данные позволяют поновому взглянуть на принципы построения профилактики суицидов.
Подростковый суицид, аутоагрессия, самоубийство
Короткий адрес: https://sciup.org/140220783
IDR: 140220783
Текст научной статьи Саморазрушающее поведение родителей подростков, совершивших суицидальную попытку
Каждый год около миллиона человек погибает, совершая суицидальную попытку [12, 13]. То есть во всем мире каждый день погибает 2,5 тысячи человек и одна тысяча из них - это подростки [13]. Учёные подтверждают, что молодые люди более склонны к суицидальному поведению, и на возраст 16-24 приходится максимальное количество самоубийств [1-3, 13].
Учитывая тот факт, что на один завершенный суицид приходится до 50 суицидальных попыток, истинное количество подростков, желающих свести счеты с жизнью просто огромно [9, 10]. Несмотря на большую работу, ведущуюся в направлении профилактики и предотвращения суицидов, показатели смертности не только не снижаются, но и имеют значительную тенденцию к росту во всем мир [4].
Выделяют две большие группы факторов риска суицида - потенциальные и актуальные [11]. Потенциальные факторы обуславливают изначальную готовность к суициду (личностные и эмоциональные расстройства, семейные конфликты) [5, 6, 8]. Актуальные факторы отражают эмоциональные состояния, существующие на данный момент, они становятся факторами, запускающими изначальную суицидальную готовность (обида, разочарование, гнев и пр.) [7, 10].
Наиболее неизученной, но, крайне важной составляющей подросткового суицида, является внутрисемейная атмосфера [1, 4, 6, 9, 10]. Практически все авторы, работающие над проблемой суицидов, отмечают значимость семьи как фактора провоцирующего суицид и, в тоже время, сдерживающего [7].
Цель исследования: сравнительный анализ аутоагрессивных профилей в семьях, где дети (девочки-подростки) совершили или не совершили попытку суицида.
Материалы и методы.
Для решения поставленных задач были обследованы 31 семейная пара, в которых девочки-подростки совершили попытку суицида (РПС) и 60 семей, где дети не проявляли суицидальной активности (РПН). Средний возраст в экспериментальной группе составил 41,3±5,6 лет, семейный стаж 18,87±3,03. Средний возраст в контрольной группе составил 39,7±2,5 лет, семейный стаж - 17,7±1,9. Средний возраст девушек -15,93±1,22 лет в экспериментальной группе, и 15,91±1,24 года в контрольной.
В исследовании принимали участие только полные семьи. И в данном контексте мы использовали уровень общей посемейной аутоагрессии, без учёта гендерных признаков.
В качестве диагностического инструмента, мы использовали опросник для выявления аутоагрессивных паттернов и их предикторов в прошлом и настоящем [7].
Статистический математический анализ и обработку данных, проводили посредством непараметрических метода математической статистики (с использованием критерия Фишера). Выборочные дескриптивные статистики в работе представлены в виде М ± m (средней ± стандартное квадратичное отклонение).
Результаты и их обсуждение.
Наличие в исследуемой группе классических суицидальных паттернов указано в табл. 1.
Таблица 1
Классические суицидальные паттерны в n (%), p<0,01
|
Признак |
РПС, n=62 |
РПН, n=120 |
ф эмп. |
|
Попытка суицида в анамнезе |
*13 (20,96) |
5 (4,16) |
3,465 |
|
Мысли о суициде |
*17 (27,41) |
5 (4,16) |
4,436 |
В первую очередь, отметим, что в экспериментальной группе достоверно выше уровень классических суицидальных типов реагирования (суицидальные попытки и/или мысли в анамне- зе). Что не может не формировать у потомства характерного жизненного сценария [6].
Перейдем к анализу выраженности несуицидальных аутоагрессивных феноменов.
Таблица 2
Несуицидальные аутоагрессивные паттерны в n (%), p<0,01
|
Признак |
РПС, n=62 |
РПН, n=120 |
ф эмп. |
|
Наличие соматических заболеваний |
45 (72,58) |
21 (17,5) |
7,511 |
|
Злоупотребление алкоголем |
19 (30,64) |
5 (4,16) |
4,884 |
|
Опасные хобби, увлечения, наклонности |
13 (10,83) |
0 (0) |
4,283 |
|
Физическое или сексуальное насилие в анамнезе |
16 (25,81) |
4 (3,33) |
4,481 |
|
Самоповреждения в анамнезе |
16 (25,81) |
10 (8,33) |
3,081 |
|
Склонность к неоправданному риску |
22 (35,48) |
12 (10) |
4,027 |
|
Бытовые ожоги |
23 (37,09) |
1 (0,83) |
7,192 |
В представленной табл. 2, в исследуемой нами группе, широко представлены аутоагрессивные паттерны несуицидального характера (соматическая патология, склонность к неоправданному риску, приём ПАВ, антисоциальное поведение и пр.), что делает данную группу родителей, выраженно аутоагрессивной.
Таблица 3
Предикторы аутоагрессивного поведения в n (%), p<0,01
|
Признак |
РПС, n=62 |
РПН, n=120 |
ф эмп. |
|
Суицид близких людей |
28 (45,16) |
0 (0) |
9,416 |
|
Долго переживаемое чувство вины |
28 (45,16) |
16 (13,33) |
4,641 |
|
Навязчивое чувство стыда |
17 (27,41) |
5 (4,16) |
4,436 |
|
Беспричинное снижение настроения, приступы депрессии |
47 (75,81) |
30 (25) |
6,814 |
|
Часто били родители в детстве |
18 (29,03) |
14 (11,66) |
2,825 |
|
Навязчивые чувства вины и стыда |
10 (16,12) |
9 (7,5) |
1,732 |
|
Уверенность, что умрут еще нескоро |
27 (43,54) |
84 (70) |
3,465 |
|
Отсутствие смысла в жизни |
5 (8,06) |
1 (0,83) |
2,499 |
|
Частые угрызения совести |
19 (30,64) |
9 (7,5) |
3,944 |
|
Вера в жизнь после смерти |
20 (32,25) |
70 (58,33) |
3,394 |
Основываясь на данных таблиц 1 и 2, можно предположить, что у детей, воспитанных родителями с выраженным аутоагрессивным потенциалом, также формируется негативный сценарный компонент суицидального реагирования.
Сравнение групп в отношении предикторов суицидального поведения приведено в табл. 3.
В экспериментальной группе преобладает выраженность предикторов аутоагрессивного поведения, например, навязчивого стыда, чувства безысходности, депрессивных переживаний и пр. Респонденты в исследуемой группе достоверно чаще подвергались физическому наказанию в детстве, что относится к значимым факторам суицидального риска [5]. Все эти данные позволяют охарактеризовать рассматриваемую группу как популяционный срез, имеющий значительное количество стигм аутодеструкции и обладающий выраженным аутоагрессивным потенциалом.
Выводы:
Таким образом, на основании вышеизложенных данных, с высокой степенью уверенности, можно утверждать, что родители подростков-суицидентов обладают специфическими суицидологическими характеристиками.
Они достоверно чаще демонстрируют высокий собственный уровень аутоагрессии, складывающийся из непосредственно суицидальной аутоагрессии (суицидальные попытки, мысли о суициде). Так же у них широко представленны предикторы аутоагрессивного поведения и несуицидальной аутоагрессии. То есть, существует прямая связь между наличием аутоагрессивного фона у родителей и их детей.
Принимая во внимание данный феномен, лицам, связанным по долгу службы с детьми, будет проще расставить психотерапевтические акценты при профилактике суицидального поведения и работе с постсуицидальными последствиями.